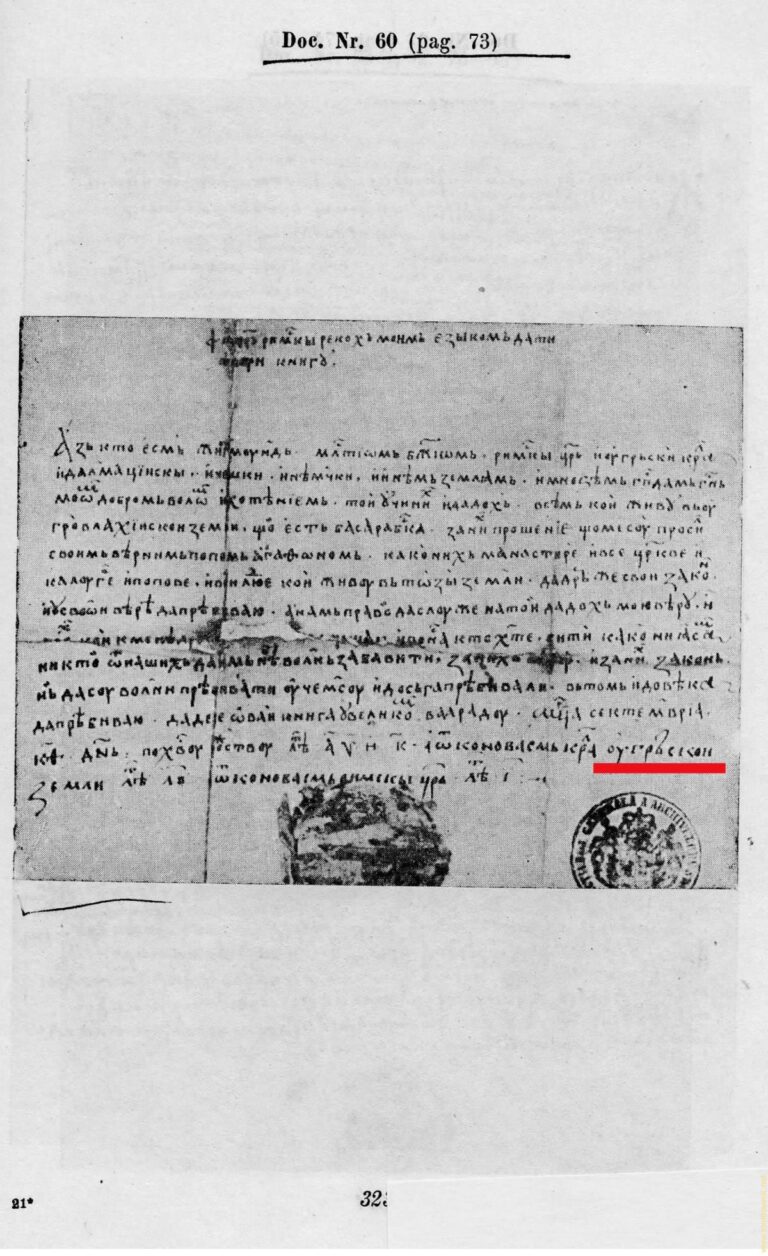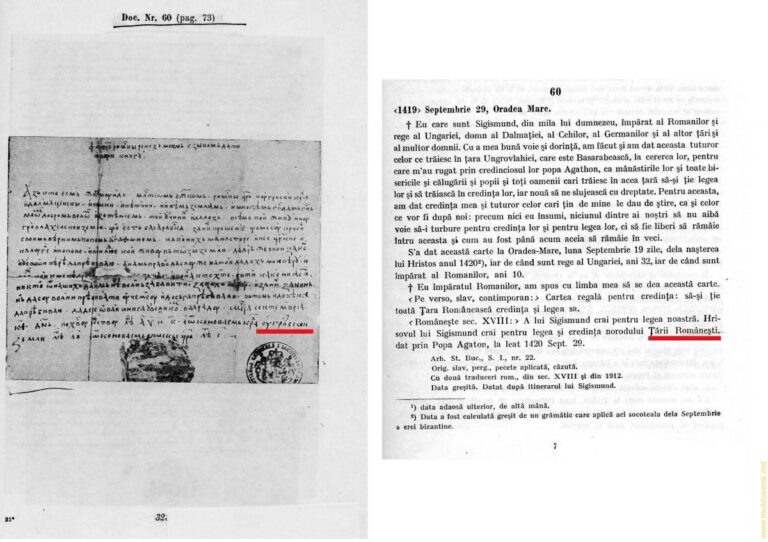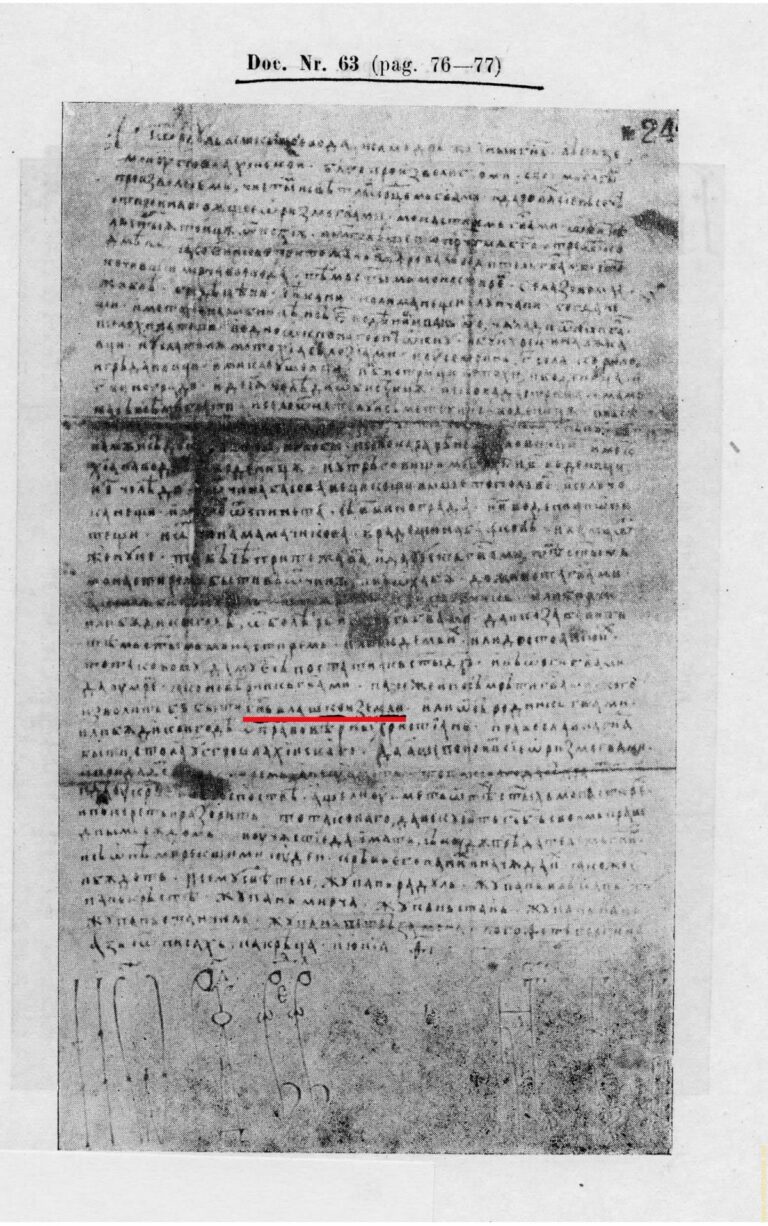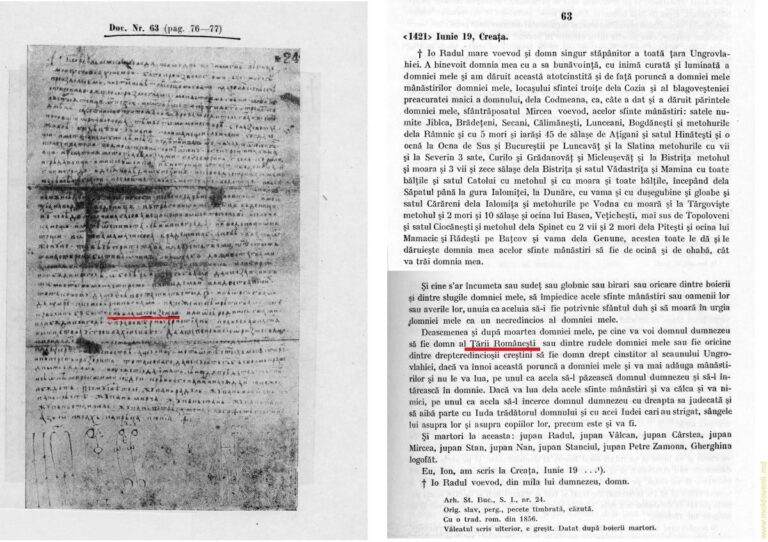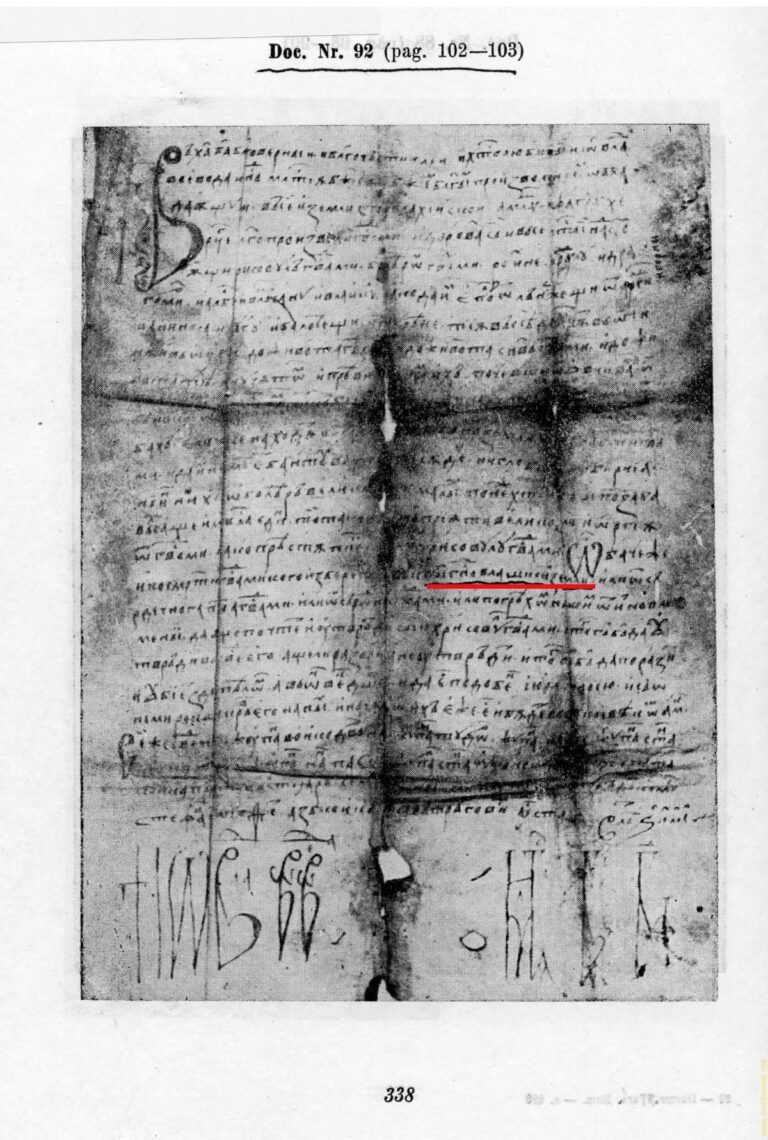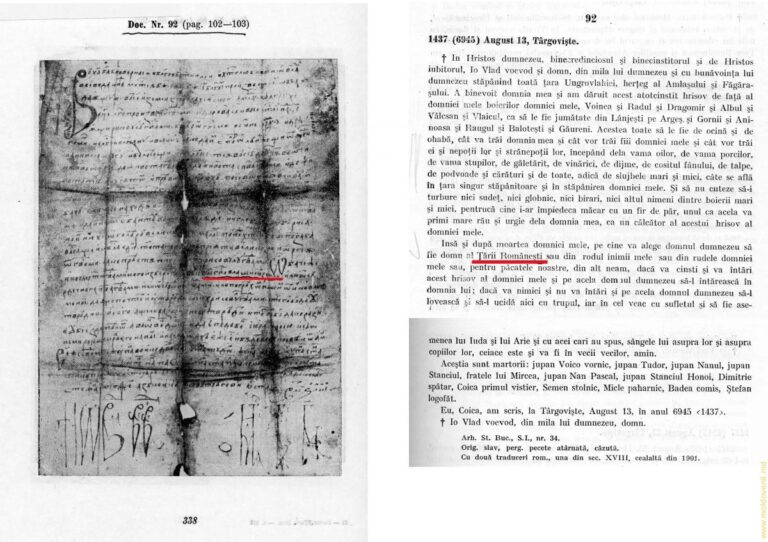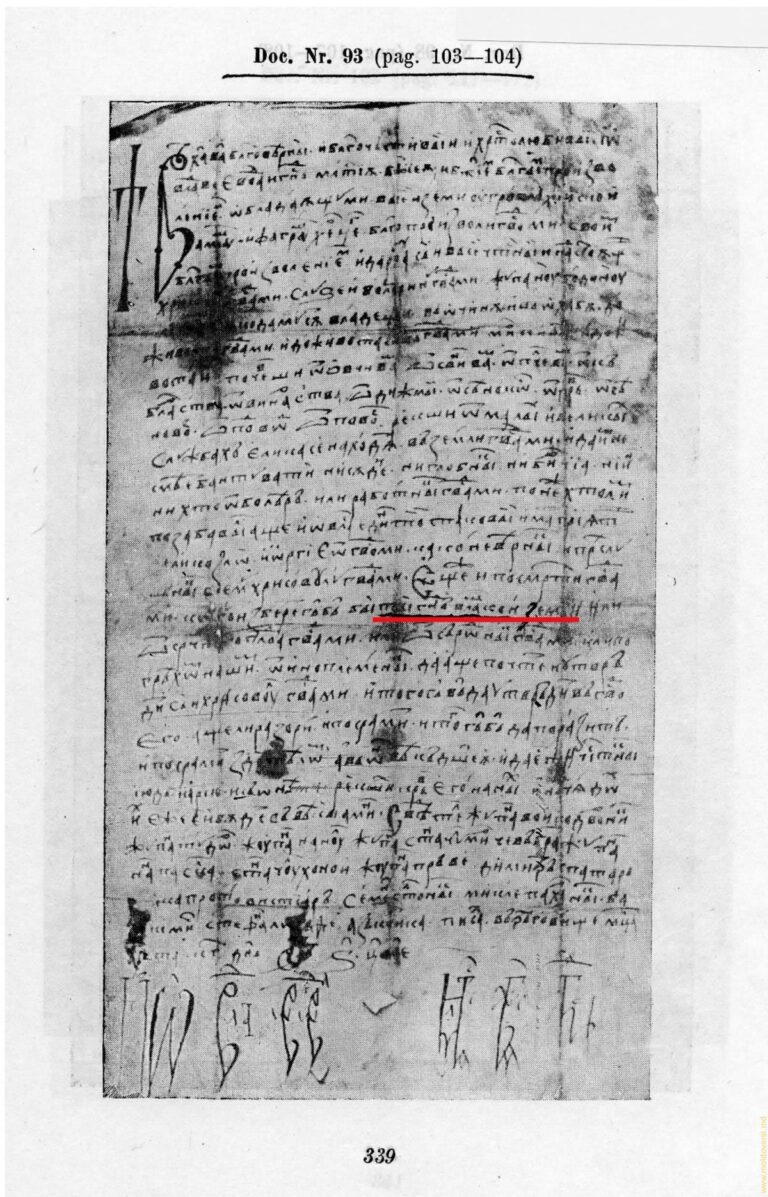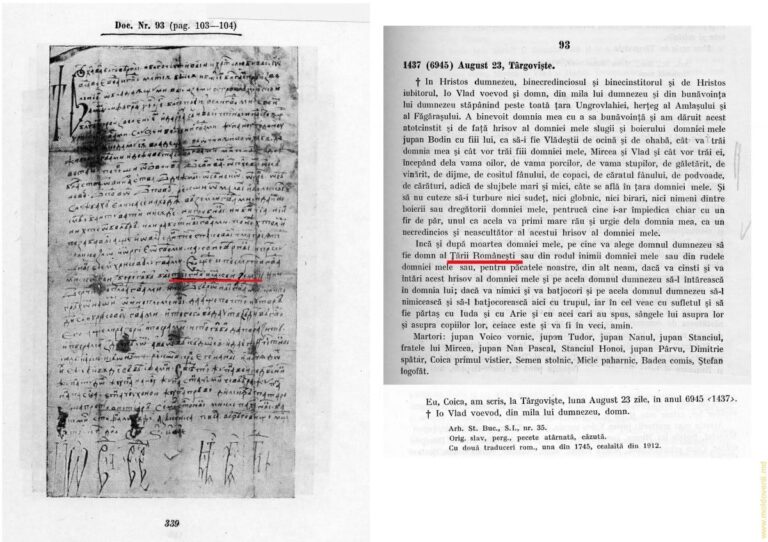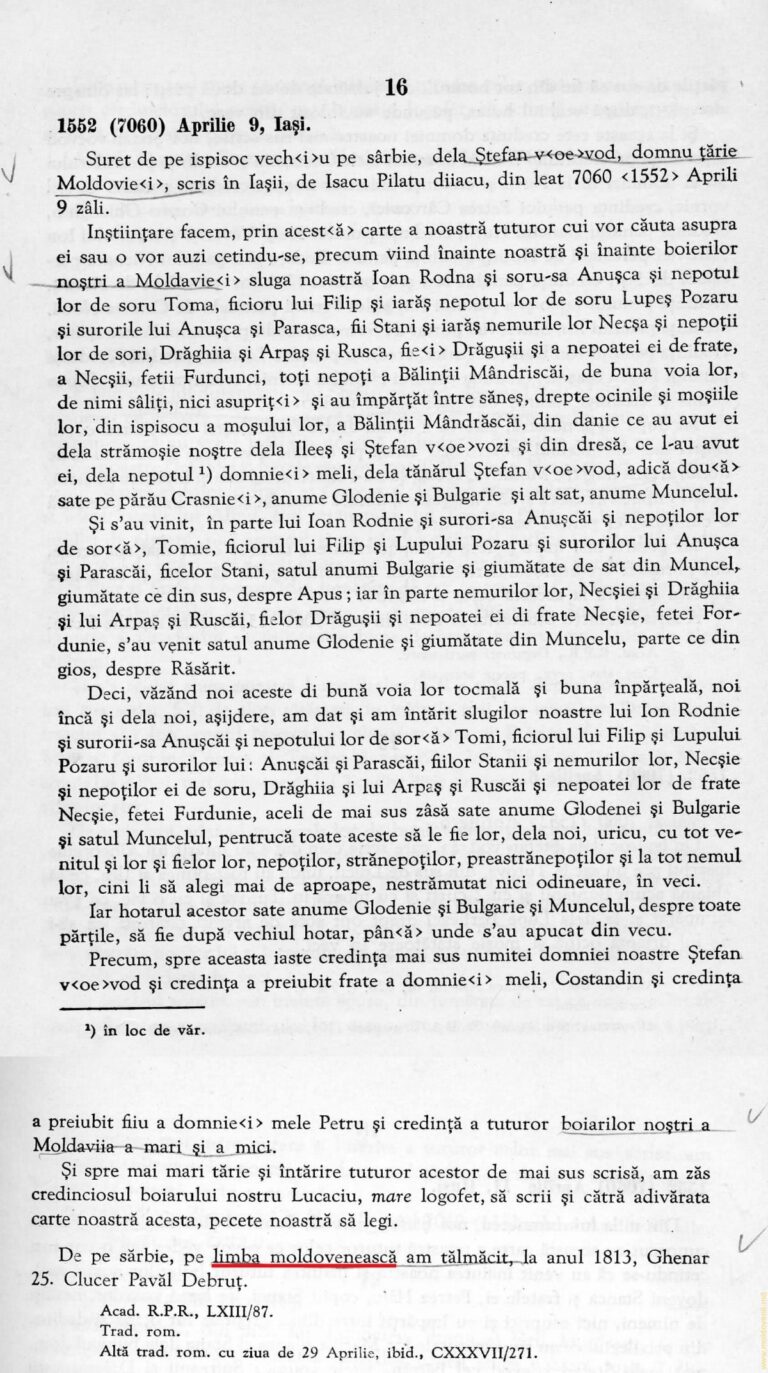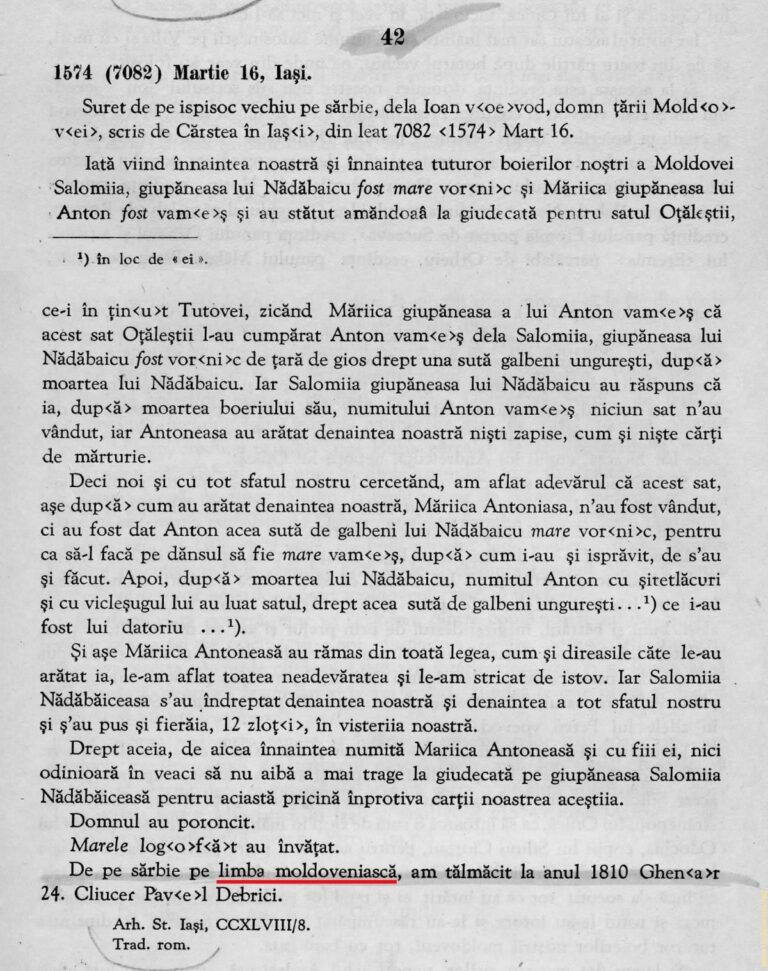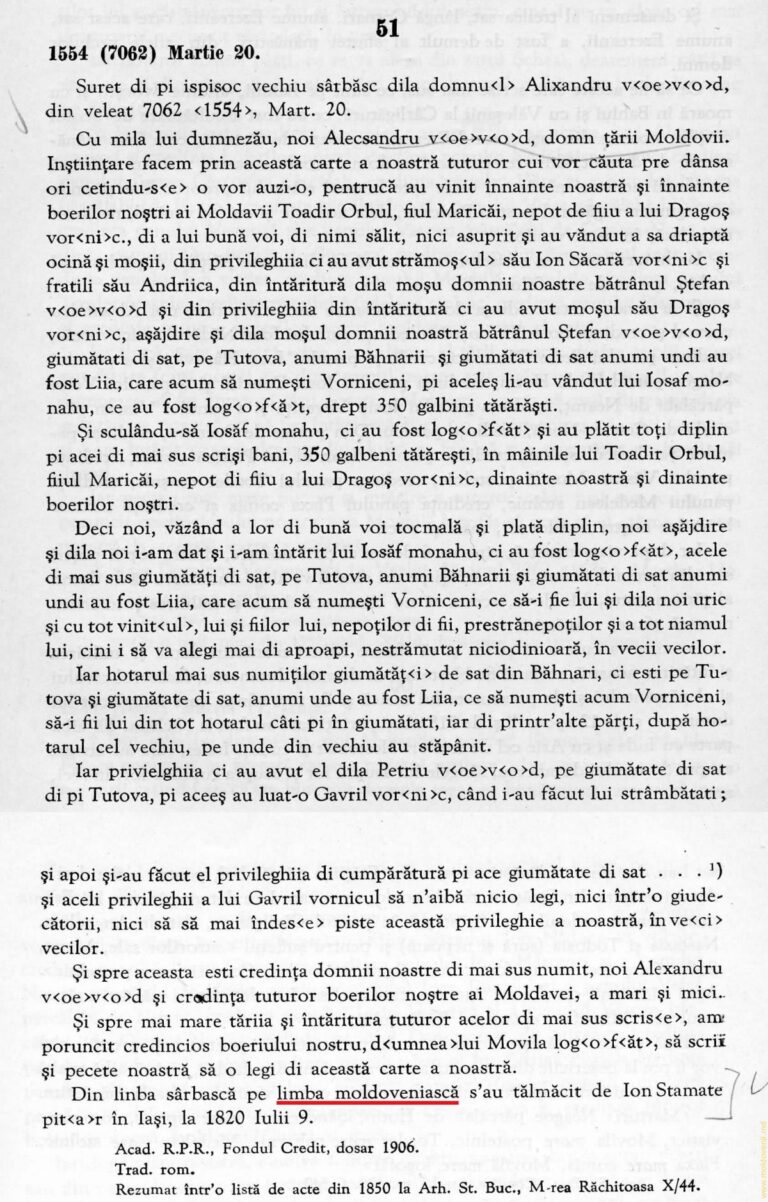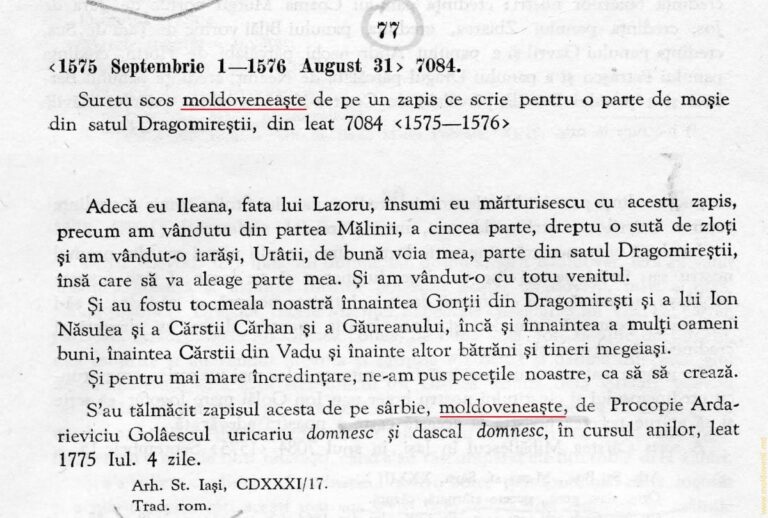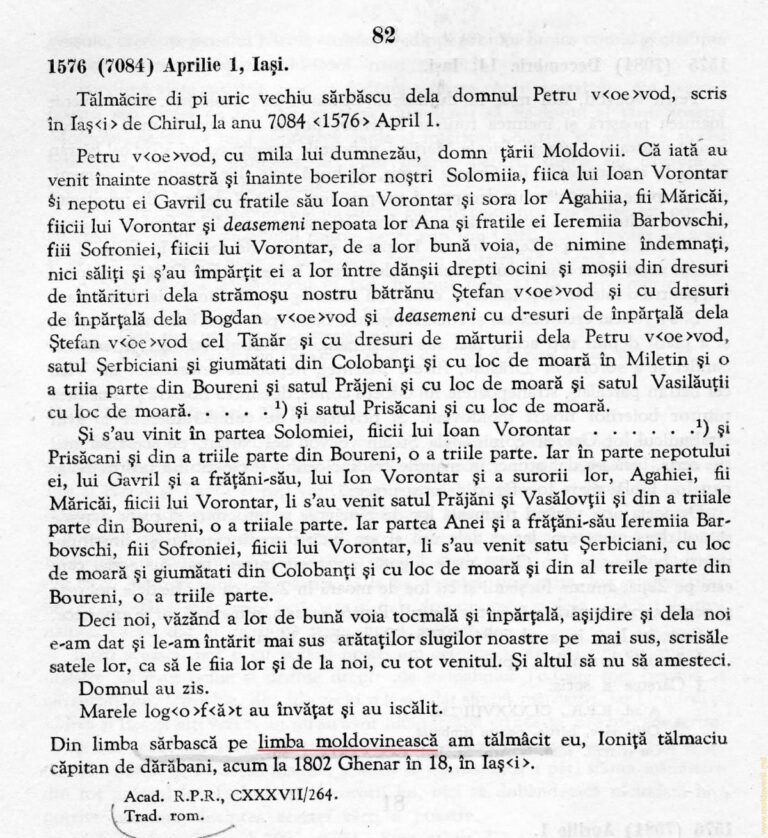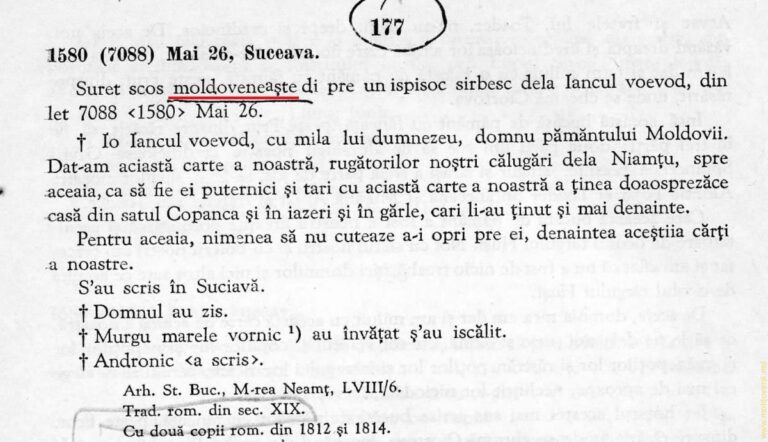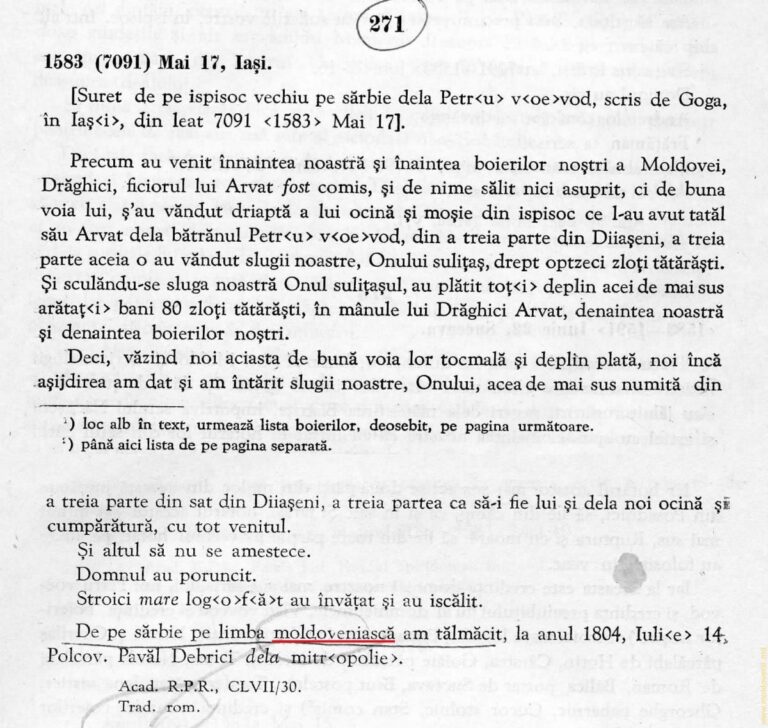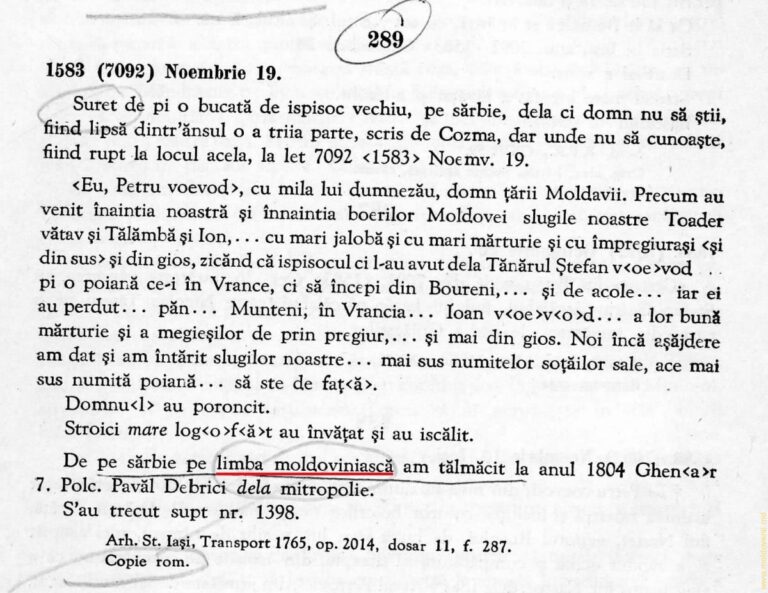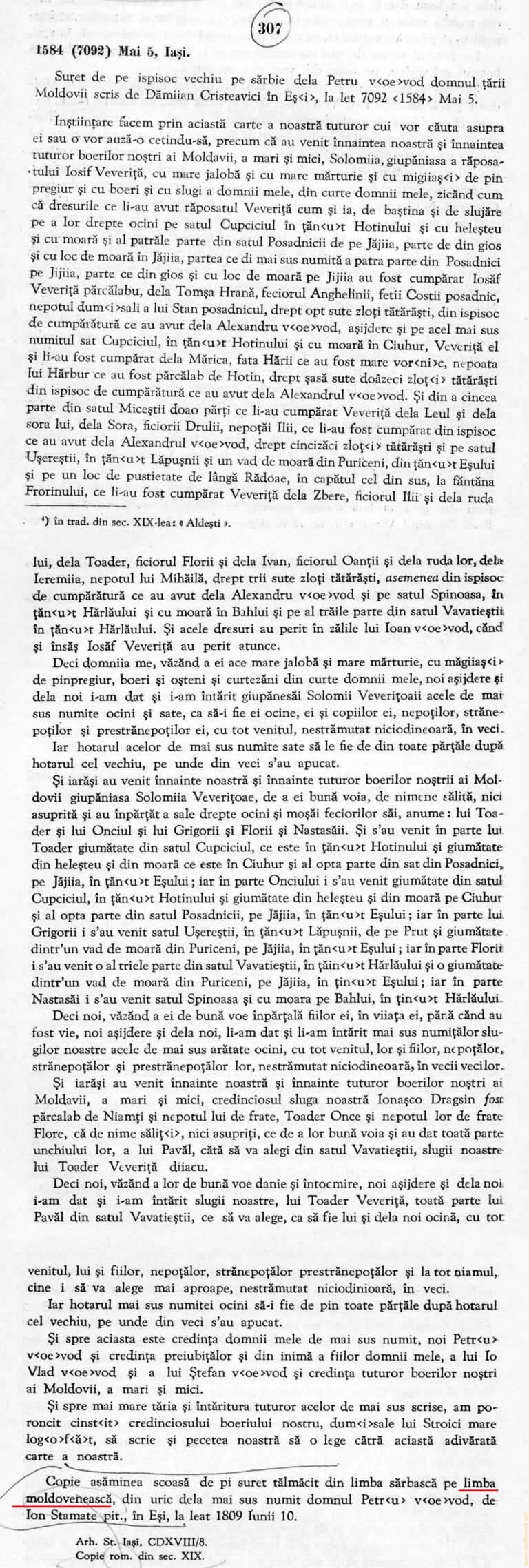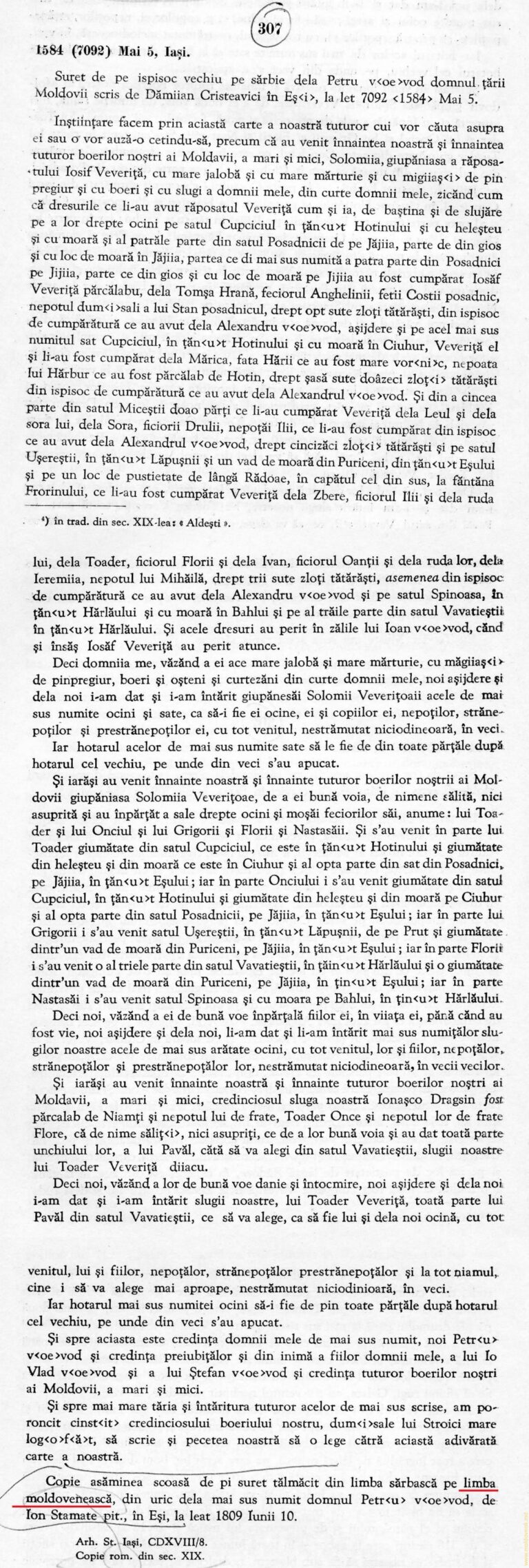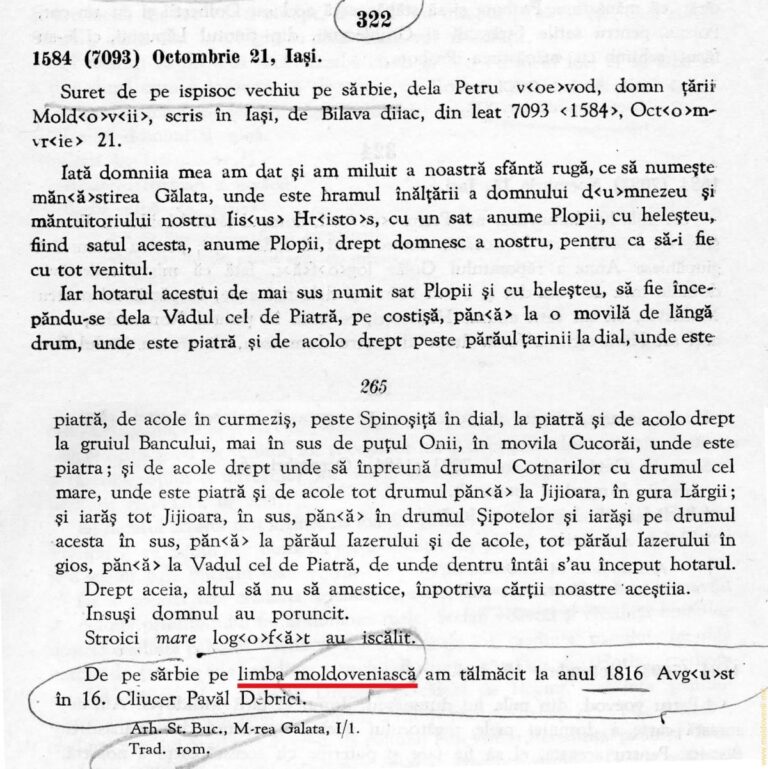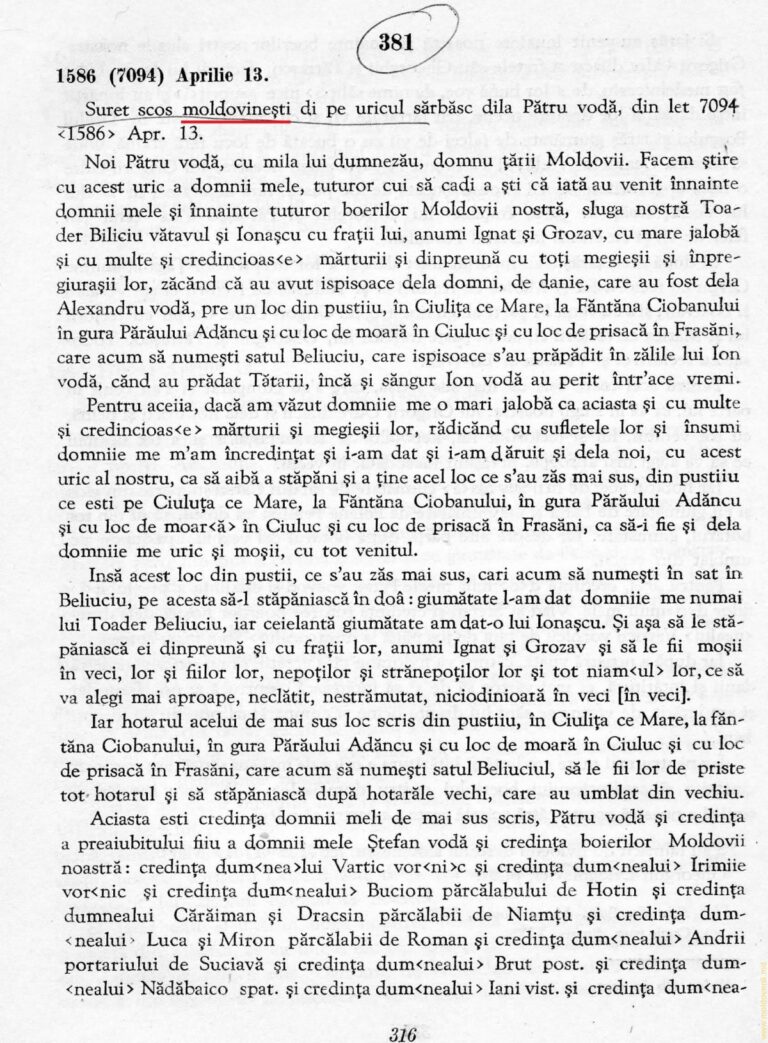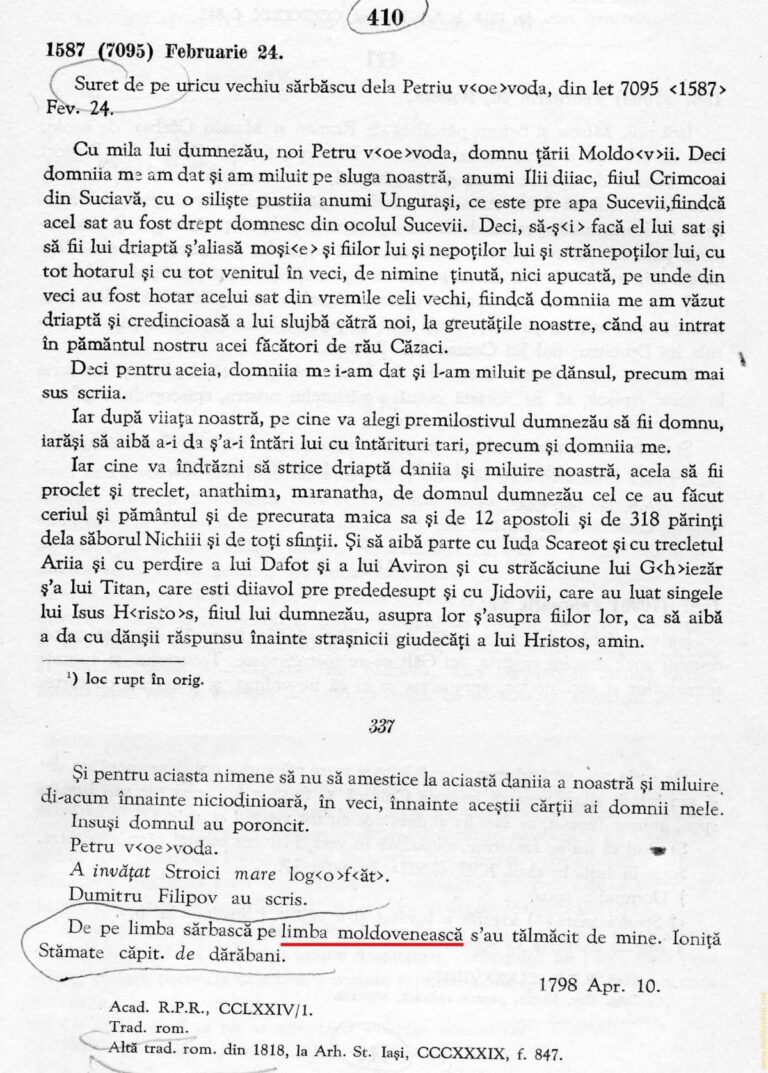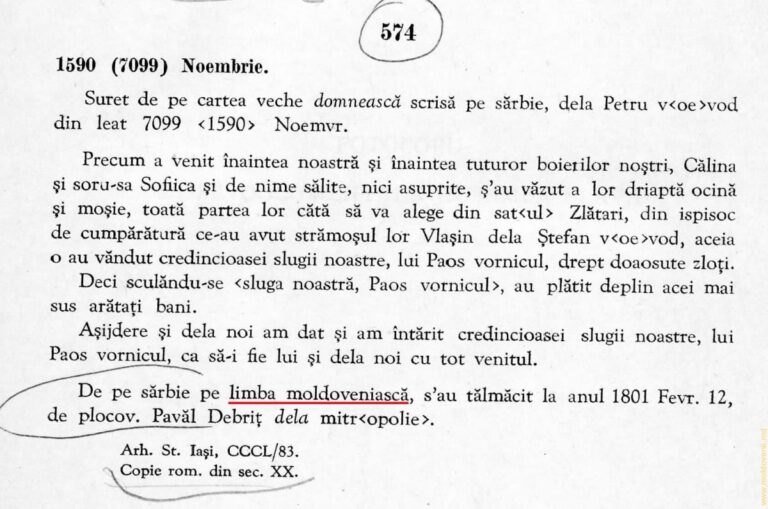Мы молдаване
Введение
Никто не знает, как давно существуют слова: «Молдова», «молдаване». Никто не знает и точного происхождения этих слов. Возможно, это один из топонимов (наименование населенного пункта) древних гето-даков, чьи названия городов и крепостей заканчивались словами «дава» – Аркидава, Буридава, Петродава, Русидава… Молдава. Может, это название одного из древних индоевропейских племен, много тысяч лет назад поселившихся между Карпатами и Днестром, либо части территории, которую занимали эти племена. Ясно, что этим терминам значительно больше лет, чем нашему государству, образованному, согласно известным письменным источникам, в 1359 году.
Этим словам, возможно, тысячи лет, потому что никто не знает, когда названа «Моldau» река в Чехии, которую местное население позднее стало называть Влтава, когда названы «Молдова» и «Молдовица» реки в Румынии, когда стала называться «Молдовану» самая высокая гора Карпат (высота 2544 м), которая никогда не находилась на территории исторической Молдовы.
Мы не знаем, когда и почему названы именами, содержащими корень «молд», старинные города и крепости, разбросанные по Центральной и Южной Европе. Эти знания утрачены, но древнее имя нашего народа, его страны и языка ласкают слух, мило и близко нашим сердцам, это имя передано нам от предков, создававших славную историю нашего государства, многие из которых умирали за свою страну с ее названием на устах. Это имя в нашей крови и в наших душах. Это имя помогало нам избежать ассимиляции более многочисленными народами, создавать нашу замечательную культуру, сохранить символы, историю, язык и память о наших великих предках. Это имя крепко связано с нашей землей, которую мы любим, благодаря этому имени мы в числе 200 наций, имеющих собственную государственность.
Молдаване внесли и вносят решающий вклад в культуру румынского народа, из молдаван вышли большинство румынских классиков и современных деятелей музыки, литературы, искусства и философии. Молдаване сыграли важную роль в освобождении Запрутской Молдовы и Валахии от Османского ига, а также от чрезмерной опеки со стороны Российской империи. Наши романтически настроенные представители интеллигенции и военных сыграли решающую роль в объединении Молдовы и Валахии. Именно молдаване, которые понимали важность объединения двух братских народов в единое государство как необходимое условие их сохранения, внесли решающий вклад в идеологическое, политическое и военное обеспечение этого объединения. К сожалению, решая эти актуальные на тот момент задачи, наши великие соотечественники не обратили должного внимания на важность соблюдения международных договоренностей о наименовании государства и народа, зарождающихся в результате этого объединения. Они не заметили, как их, увлеченных самим процессом объединения, обошли на повороте менее образованные и романтичные, но более искушенные в политических интригах, более многочисленные, практичные и напористые валахи, которые навязали исторически чуждое нашим народам наименование нации – «румыны» и наименование государства – «Румыния». Наши выдающиеся соотечественники, руководствуясь благими побуждениями, попали в ловушку, из которой так и не смогли выбраться, потянув за собой большую часть молдавского народа. И здесь уместно вспомнить классика молдавской литературы Алеку Руссо, который писал в 50-х годах XIX столетия: «…Бедный Штефан-Водэ, где он, чтобы видеть…? Уже не молдаване мы, а румыны… Опасаюсь я, что в прощальный час, когда небесные трубы призовут нас на последний суд, не сможем общаться и понимать наших предков ни в языке, ни в идее…»
За более чем 150 лет, прошедших с того времени, учеными Молдовы, Румынии и других государств собрано огромное количество данных и артефактов, которые четко показывают: население, проживающее в современных Молдове и Румынии, имеет глубокие тысячелетние корни на этой территории, подтвержденные археологическими, антропологическими, генетическими, лингвистическими, культурологическими и другими данными. Сегодня всем беспристрастным ученым понятно, что мы, конечно, не потомки Рима, мы имеем собственную богатую, значительно более древнюю, чем Рим, историю и культуру, уходящие вглубь тысячелетий, которые сформировались не где-нибудь, а на нашей земле – территории Днестровско-Карпато-Дунайского региона.
К сожалению, некоторые наши соотечественники – политики, представители исторической науки, творческой и педагогической интеллигенции, не приложив должных усилий в изучении истории своего народа, утратив связь с истоками, пытаются повторить события XIX века, происходившие в запрутской Молдове, и начала 1918 года, когда территория современной Республики Молдова была присоединена к Румынии. Несмотря на наличие огромного пласта информации и научно доказанных фактов уже нас, молдаван Республики Молдова, пытаются лишить имени, исторической памяти, истории, нам хотят построить будущее на чужой культуре и на чужих условиях, нас хотят лишить себя, с нами хотят сделать то, что сделали с нашими братьями – запрутскими молдаванами 150 лет назад.
Дошло до того, что именами римских императоров, мощью всей империи разрушивших древнее государство наших предков, гето-даков, называют улицы, населенные пункты, вина и даже детей.
Мы не ищем врагов, преисполнены любви и позитивного отношения к другим народам и их интересам, мы считаем своими братьями жителей Румынии – носителей одинаковых с нами (с некоторыми оговорками) языка и культуры. Мы не выступаем против кого-либо, мы защищаем себя, своих детей и родителей, свой многострадальный народ. Нам, народу с собственными древней культурой, языком и историей, вновь пытаются отсечь корни, предложив стать наследниками многоязыкого, многонационального, ориентированного на «хлеб и зрелища» населения Римской империи, которое, якобы перебив всех гето-даков, и положило начало этногенезу молдаван и тех, кто называет себя сегодня румынами. Разве может народ со столь богатой высокодуховной культурой, устоявшимися традициями и обычаями, однородный генетически и антропологически произойти от разноэтнических (от североафриканцев и семитов до иберов и галлов) римских легионеров и колонистов, занявших незначительную часть территории Дакии? Ответ очевиден – это большое заблуждение, историческая ошибка, которую нужно исправить раз и навсегда в интересах всех молдаван и не только, а, возможно, всего народа Румынии.
Нам говорят – не поднимайте этот вопрос, сейчас нужно решать экономические и социальные проблемы, а вы про название народа, про корни… Какая разница? Тот, кто так говорит, либо не понимает, о чем собирается рассуждать, либо ведет целенаправленную работу, уводя нас от сути проблем, от того, с чего может начаться возрождение нашего народа и государства. С чего можно начаться возрождение государства, в котором слабы финансы и экономика, разрушается система образования, деградируют культура и молодежь, а большинство взрослого работоспособного населения уехало за рубеж на заработки? Ответ для нас ясен как день – с возрождения национального самосознания, с закрепления в сознании народа своего имени, своих корней, своей истории, своих символов и своих героев, с чувства гордости за свою историю, культуру, государство и народ. С ощущения себя единым целым, единой общностью, которая способна сплотиться для достижения лучшего будущего.
Мы не можем ждать, пока наши политики вспомнят о своей любви к стране, народу и возьмутся за разработку национальной идеи и качественных стратегических программ развития государства. Наши политики очень заняты. Они заняты перманентными выборами, формированием и расформированием коалиций, дележом постов, спорами и дискуссиями на мелкие темы, подброшенные популярными теле- и радиоканалами. Наших политиков кто-то удачно отвлекает от основных проблем страны и народа. Наши политики заняты. Вам, дорогие соотечественники, судить о том, насколько эффективно тот либо иной политик сумел встроиться в программу развития народа и способствовал ее реализации. Вам выбирать лучших из них.
Но мы… мы обязаны бороться за себя, свой народ, за собственное существование и развитие, опираясь на мощный фундамент, созданный нашим предками.
1. Мы молдаване
Молдаване являются коренным населением Республики Молдова и исторической Молдовы – области на востоке современной Румынии (8 уездов), а также некоторых местностей на Украине (Северная Буковина, Южная Бессарабия), принадлежавших в прошлом Молдавскому государству. Вышеупомянутое государство существовало 500 лет, занимая территорию примерно в 100 000 кв. км, после чего принимало различные формы – от компактного проживания молдаван в составе российской губернии до государственных образований различной степени самостоятельности (МДР, МАССР, МССР) и, наконец, в настоящее время – суверенного государства Республики Молдова. На сегодняшний день территория исторической Молдовы входит в состав Республики Молдова (36%), Румынии (46%), Украины (18%).
Согласно статистическим данным, во всем мире проживают более 10,3 миллионов молдаван. Так, на исторической территории бывшего Молдавского государства проживает более 8,87 миллионов молдаван: в Молдове — 2 741849 (в это количество входит 177 382 молдаван — жителей восточных регионов Молдовы), в Румынии — около 5,5 миллионов, в Украине – около 0,45 миллионов.
Молдавские диаспоры существует во многих странах, где временно или постоянно проживают более 1,5 миллионов молдаван. Крупные молдавские общины, согласно официальным данным, существуют в России, Италии, Португалии, Казахстане. Молдаване проживают в таких странах, как Беларусь, Испания, Кыргызстан, Литва, Латвия, Эстония, Таджикистан, Швеция, Дания, Австрия, Бельгия, Болгария, Китай, Франция, Греция, Германия, Израиль, Польша, Великобритания, США, Турция, Венгрия, Узбекистан, Кипр и т.д.
1.1. Молдаване в Республике Молдова
В соответствии с данными Национального бюро статистики Республики Молдова в этнической структуре населения Республики Молдова, согласно переписи 2024 года, молдаване составляют большинство населения — 77.2% от общей численности, что свидетельствует об увеличении на 1,4% по сравнению с 2004 годом. Наряду с молдаванами, в нашей стране живут украинцы, число которых составляет 4,9%, русские — 3,2%, гагаузы — 4,2%, румыны — 7,9%, болгары — 1,6%, представители других национальностей — 0,5% от общей численности населения.
Динамика населения по основным национальностям (согласно переписи населения)
ПОСТОЯННОЕ НАСЕЛЕНИЕ ПО ОСНОВНЫМ НАЦИОНАЛЬНОСТЯМ(по данным переписей населения)
| В % к итогу
| 1959 | 1970 | 1979 | 1989 | 2004 | 2014 | 2024
Всего | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Молдаване | 65,4 | 64,6 | 63,9 | 64,5 | 75,8 | 75,3 | 77.2
Украинцы | 14,6 | 14,2 | 14,2 | 13,8 | 8,4 | 6,8 | 4.9
Русские | 10,2 | 11,6 | 12,8 | 13 | 5,9 | 4,1 | 3,2
Гагаузы | 3,3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4,4 | 4,4 | 4,2
Румыны | 0,1 | 0 | 0 | 0,1 | 2,2 | 6,7 | 7,9
Болгары | 2,1 | 2,1 | 2 | 2 | 1,9 | 1,9 | 1,6
Цыгане | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,4
Евреи | 3,3 | 2,7 | 2 | 1,5 | 0,1 | … | …
Другие
национальности | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,3 | 0,5 | 0.5 | 0,5
Национальная структура населения отражает изменения, имевшие место в нашем обществе в последние 15 лет, среди которых особо следует отметить интенсификацию процессов эмиграции населения. Из общей численности населения, объявившего свой родной язык в переписи 2024 года, 49,2% назвали своим родным языком молдавский, а 31,3% – румынский.
Так, доля населения, назвавшего румынский язык родным, увеличилась на 8,1 процентных пункта по сравнению с переписью 2014 года (23,2%), а назвавшего молдавский – уменьшилась на 7,8 процентных пункта (56,9% в ПНЖ 2014). Среди других языков, указанных в качестве родного, выделяется русский – 11,1%, за ним следуют гагаузский — 3,8%, украинский – 2,9% и болгарский – 1,2%.
1.2. Этногенез молдаван
Молдаване представляют собой древний народ, уходящий корнями в многотысячелетнюю историю Карпато-Днестровско-Понтийского региона. Коренные жители этих мест, предки молдаван, упоминаются на протяжении истории под разными именами (фракийцы, геты, даки, влахи, валахи, волохи) в письменных источниках греческих, римских, немецких, славянских, венгерских и других народов. Молдаване сохранили себя даже во времена господства различных мигрирующих народов, сплотясь в этнически однородные сообщества, обладавшие социально-политической и культурной структурой, которая обеспечивала ассимиляцию новоприбывших народов, поселявшихся на их территории. Даже в сложных ситуациях, когда молдаване были вынуждены отступать в горные и лесные регионы по причине опасности, исходившей от нашествий различных захватчиков, народу удалось сохранить язык, традиции и обряды. Молдаване сохранили свои этнические особенности, обычаи, несмотря на то, что периодически были вынуждены жить в составе государств, которые создавали на их территории другие народы.
Этнологам и историкам не нужны длительные исследования для доказательства преемственности молдаван в Карпато-Днестровско-Понтийском регионе (в отличие от необходимости таких доказательств в отношении других этнических групп); она подтверждается многочисленными свидетельствами антропологического, археологического, лингвистического, и т.д. характера. Преемственность коренного населения, молдаван, находит свое выражение в длительном существовании индоевропейской культурной, языковой, этнической традиции Карпато-Днестровско-Понтийского региона, которая за время своего существования прошла через несколько основных эпох в своём этнокультурном развитии:
- Протоиндоевропейская или Кукутень-Трипольская цивилизация;
- Фракийская эпоха;
- Эпоха цивилизации гето-даков;
- Эпоха влахов, валахов, волохов;
- Молдавская эпоха.
1.3. Генетические доводы в пользу преемственности населения Карпато-Дунайско-Черноморского пространства
Преемственность населения в областях между Карпатами, Дунаем и Черным морем с древнейших времен по наши дни подтверждают тесты ДНК. В этом контексте наиболее показательными являются исследования Y-хромосомы, которая определяет пол человека и передается только по мужской линии, от отца сыну. Мальчики получают от своих отцов Y-хромосому, а от матерей — митохондриальную ДНК, тогда как девочкам достается лишь мамина митохондриальная ДНК. Соответственно, изучение Y-хромосомы позволило выяснить, от скольких «Адамов» произошла человеческая раса.
Население Европы ведет свой род от шести Адамов, которые проникли на континент в следующем хронологическом порядке: Адам I, Адам J, Адам R1a, Адам R1b, Адам E3b, Адам N.
По данным популяционной генетики человека, гаплогруппа I (потомки Адама I) – самая древняя гаплогруппа в Европе, причем это единственная большая группа, сформировавшаяся на европейском континенте. Некоторые исследователи полагают, что местом появления гаплогруппы I могла быть Граветтская культура (верхний палеолит) – своего рода обитаемый «оазис», где люди переживали Последний ледниковый максимум. Эта гаплогруппа зародилась 20-25 тысяч лет назад на Балканском полуострове, хотя ее истоки лежат в гораздо более раннем периоде – примерно 35 тысяч лет назад. С отступлением ледникового максимума гаплогруппа I распространилась от Балкан до Северной Европы.
Гаплогруппа J появилась в Европе 10 000 лет тому назад, вероятно, из Анатолии. Колыбель этой гаплогруппы, по мнению ряда ученых, находилась в Черноморском регионе, который её носители покинули из-за повышения уровня вод в результате таяния ледников.
Гаплогруппа R1a происходит, по всей видимости, из степей Северного Причерноморья, а R1b– из южных областей Европы и бассейна Эгейского моря.
Адам E3b был выходцем из Северной Африки и оказался в Европе в эпоху неолитической революции. Другие представители данной гаплогруппы пришли в Европу в более поздний период.
Гаплогруппа N появилась из Сибири, Монголии и Китая, распространившись в северных регионах России, Финляндии и Эстонии.
Имеющиеся данные указывают на то, что Homo sapiens (кроманьонец) полностью принадлежал гаплогруппе I. Со времён прихода в Европу людей современного вида (кроманьонцев) и до появления больших групп индоевропейцев около 5 тыс. лет назад гаплогруппа I составляла большинство населения европейского континента. Носители этой группы являются создателями мегалитических построек в Западной Европе и, совместно с носителями гаплогруппы R1a– первой европейской цивилизации, Кукутень-трипольской культуры. Сейчас наибольшая концентрация носителей гаплогруппы I отмечена в Швеции, Дании и Балканах. В других частях Европы число представителей гаплогруппы I составляет от 10 % до 45 % населения.
У гаплогруппы I есть две основные ветви: гаплогруппа I1 и гаплогруппа I2. Их разделение произошло примерно 20 000 лет – они были рассечены народами «кельтской» гаплогруппы R1b и «арийской» R1a. Родство «балканской» гаплогруппы I2 со «скандинавской» I1 сохранится и после этого раздробления.
В результате слияния населения Центральной и Северной Европы с индоевропейцами зародился протогерманский этнос, а жители этого региона Европы стали носителями языка индоевропейского происхождения.
Гаплогруппа I1типична для популяций Скандинавии, Исландии и Северо-Западной Европы, с умеренным распределением по территории Восточной Европы.
Большинство современных представителей гаплогруппы I1 составляют носители германских языков индоевропейской семьи.
Гаплогруппа I2 – «балканская» гаплогруппа Y-хромосомы — происходит из юго-восточных областей Европы. Разделяется на две подгруппы: I2a (более всего распространена на Балканском полуострове и Сардинии) и I2b (северо-запад Европы). Представители гаплогруппы I2 были носителями Балканской культуры неолита, в т.ч. Кукутенско-трипольской культуры. Широкое распространение эта гаплогруппа имела в Центральной Европе в эпоху бронзового века (культура полей погребальных урн), позднее ее носителями были иллирийцы и фракийцы.
Со временем I2 разделилась на четыре основные подгруппы: I2a1, I2a2, I2b1 и I2b2. Носители гаплогруппы I2 есть среди южных славян, румын, молдаван, венгров, греков, болгар, белорусов, русских из юго-западных областей России, жителей северо-востока Италии, запада Анатолии и Северного Кавказа.
Гаплогруппа I2a2 типична для населения Юго-Восточной Европы, наибольшая ее концентрация отмечена в двух центрах:
- у жителей Боснии и Хорватии;
- у жителей северо-востока Румынии, Республики Молдова, а также центральной и юго-западной части Украины.
Второй центр гаплогруппы I2a2 (северо-восток Румынии, Республика Молдова и Украина) коррелирует с границами Кукутенско-трипольской культуры. Группа I2a2 являлась характерной для этой культуры и с приходом индоевропейцев влилась в их генофонд, не испытав такого подавления, как другие ветви гаплогруппы I в Центральной и Западной Европе.
Таким образом, фракийцы и иллирийцы – жители Юго-Восточной Европы, представители I2a2 сформировались в результате ассимиляции индоевропейцев коренными жителями этого региона. Представители гаплогруппы I2 продолжали доминировать в Юго-Восточной Европе и в более позднее время. Они ассимилировали мигрирующее население, появились новые языки. В результате на основе местного фракийско-иллирийского субстрата формировались новые народы. К примеру, жители Боснии и Хорватии говорят на славянских языках, тем не менее, концентрация «славянской» гаплогруппы R1a у них существенно ниже, чем I2, что позволяет видеть в них прямых потомков иллирийцев и фракийцев. У жителей северо-востока Румынии, Республики Молдова и Украины преобладание группы I2a2 сохранялось при смене культур и цивилизаций: Кукутень-трипольской, фракийской, гето-дакийской. Они присущи населению этого региона и в наши дни. Исследования генетиков показали, что в Европе степень генетической близости народов определяется главным образом географическим расположением, а не языком. Например, молдаване, сербы, хорваты и боснийцы родственны друг другу, хотя говорят на языках разных семейств. Проведенные исследования также показали, что современное население Карпато-Дунайско-Черноморского региона практически не связано генетическим родством с жителями Апеннинского полуострова (итальянцами).
В XIII-м веке в литературных источниках появляется упоминание об этносе, проживающем к востоку от Карпат, под названием «молдаване». Этот этнос, уходящий корнями в многотысячелетнюю историю Карпато-Днестровско-Понтийского региона, пережил военно-политические и культурные потрясения I-го тысячелетия нашей эры, а в XIV веке и другие народы стали называть его «молдаване». Как и в XIV-XV веках, сегодня население молдавского государства состоит в основном из молдаван (около 80%). Как тогда, так и в наши дни, рядом с молдаванами проживают украинцы, русские, евреи, армяне, к которым в начале XIX века добавились гагаузы, болгары, осевшие в основном в Бессарабии (= Буджаке) на юге; как в те времена, так и сегодня, топонимы славянского происхождения чаще всего встречаются на севере республики; на юге преобладают гагаузские и болгарские географические названия. На остальной территории, в области кодр и центральной молдавской возвышенности, а также на левом берегу Днестра преобладают молдавские названия.
Сегодня, так же, как в прошлом, от Карпат до Днестра и на левом берегу этой реки, на протяжении всего молдавского исторического, географического, этнического и лингвистического ареала мажоритарное население называется молдаване, от него произошло название страны – Молдова, оно также называет свой родной язык молдавским.
2. О молдавском языке
2.1. Введение
Во второй половине XIX века, в несколько этапов, произошло объединение двух зависимых от Турции европейских государств – Молдовы и Валахии. Первоначально наименование объединенного государственного образования было определено в 1858 году на Парижской конференции как «Соединенные княжества Молдова и Валахия». Во многом инициированное молодыми молдаванами, некоторые из которых получили образование во Франции, это объединение проходило стремительно. Стремительно решались вопросы наименования объединенной нации, языка и государства, формирования государственных органов, армии, общих границ и денежной системы.
Мы, молдаване, по-разному оцениваем добровольный отказ от собственной государственности наиболее молодой и активной частью элиты запрутских молдаван. Возможно, объединение двух близкородственных народов сыграло определенную позитивную роль в их политическом и экономическом развитии. Однако, по нашему глубокому убеждению, решение о наименовании государства, нации и языка (Румыния, румыны, румынский язык) было глубоко ошибочным.
Основана эта ошибка на убеждении некоторых наиболее активных «объединителей» в происхождении молдаван и валахов от римских колонистов, в основу которого были положены домыслы, предположения и пожелания отдельных летописцев, валашской интеллигенции, а также некоторых представителей молдавской элиты середины XIX века.
С момента объединения прошло много времени, появилось огромное количество артефактов, работ ученых в области археологии, истории, лингвистики, генетики и генной географии, открыты новые письменные источники, которые ставят под глубокое сомнение происхождение молдаван от Рима и, более того, доказывают обратное. Сейчас для многих беспристрастных ученых очевидно, что молдаване, на протяжении тысячелетий стабильный культурно, языково и генетически народ, значительно более древний, чем римляне. Многим сегодня понятно, что при объективном подходе к исследованиям высока вероятность обратного вывода – не молдаване произошли от Рима, а италики и некоторые другие народности Апеннинского полуострова, скорее всего, произошли от прямых предков молдаван – фракийцев и протофракийцев. Не молдавский (или румынский) произошли от латинского, а латинский и итальянский имеют древнего предшественника – язык предков современных молдаван и румын.
C момента объединения княжеств в середине XIX века вся румынская наука (и, под ее влиянием, румынистика других государств, включая российскую) обслуживает ошибочную версию о происхождении наших народов. Археология, история, филология, лингвистика и другие науки вместо соревновательного научного поиска занимаются тем, что все большее количество новых полученных фактов стремятся интерпретировать в контексте румынизма. Те факты и научные данные, которые доказывают обратное, уничтожаются либо, если это невозможно, прячутся от румынской (и молдавской) общественности, а если и это невозможно, то распространители «неудобных» версий и теорий высмеиваются, их превращают в изгоев, против этих людей объединяется государство, вся «официальная» наука, академии и институты, на них заводят уголовные дела.
При этом истина – главная цель любых научных исследований – официальную румынскую историю и лингвистику в большинстве случаев не волнует – все подчинено политическому заказу, основанному на исторической ошибке основателей современного румынского государства.
Некоторые могут сказать: «какая разница, как называется народ, государство, язык – главное, чтобы этот народ хорошо и богато жил». Но дело здесь не только в науке и экономике. Так получается, что нации, которые опираются на собственную, хорошо изученную, уходящую вглубь тысячелетий историю, имеют больше шансов выжить, создать сильные государства, укрепиться и внести достойный вклад в развитие человечества.
«Румынизм» сыграл свою роль в истории и консолидации нации. На определенном этапе эта роль была позитивной. Для дальнейшего развития этноса важно обрести свою истинную историю во всей ее полноте. Знание народом собственной правдивой истории, исторически и культурно-обоснованное наименование этноса позволяют сохранить непрерывность и преемственность в его развитии, делают понятными его особенности, дают возможность сохранить древние символы и традиции, память о предках и истинных героях нации. Правдивая история объясняет истоки языка, культуры и обычаев этноса, формирует мощный фундамент, опираясь на который, нация может стабильно развиваться. Чем глубже исследованы корни нации и ее история, тем понятнее настоящее и яснее будущее.
Именно стремление помочь молдаванам (и румынам) обрести свои корни является одной из главных причин, побудивших авторов опубликовать эту книгу. Наряду с этим, у нас, молдаван, есть и другие веские причины вернуться к истории Молдовы и колоссально богатой лексике молдавского языка.
Так получилось, что сразу после объединения и переноса столицы в Бухарест, более развитая в экономическом и культурном плане, чем Валахия, запрутская Молдова вошла в фазу денационализации и, как следствие этого процесса – деградации. Этот период не завершился и сегодня. Наступление «румын» шло и идет по всем фронтам, но именно язык, который молдаване всегда называли и называют молдавским, подвергся главной атаке со стороны «румынистов» в последующее после объединения княжеств время.
Первое, что было сделано – кириллицу, которая, изначально, тысячи лет была азбукой не только славян, но и прямых предков молдаван – фракийцев, которая прекрасно и полноценно на протяжении столетий обеспечивала богатую фонетику молдавского языка, заменили латиницей. Сразу стало не хватать букв. В молдавском языке есть звуки, соответствующие буквам кириллического алфавита: ш, щ, ц, э, ы, ь, й. В латинице таких букв нет, поэтому появились сочетания нескольких букв, означающие один звук и буквы с «хвостиками», «птичками» и «крышами» вверху и внизу – ș, sc, ț, ă, â, î, i. Из румынского языка исчез уникальный для балканских языков молдавский дифтонг «дз», используемый в словах дзиче, дзиле, дзама, дзыуа и т.д.
Дальше – больше: преисполненная преклонением перед всем иностранным, наиболее активная часть румынской интеллигенции не могла даже допустить, что произошла от одной из наиболее древних наций в Европе, имеющей собственный богатый и хорошо сохранившийся язык. Поэтому развитие румынского языка шло во многом в направлении закрепления доказательства его происхождения от каких-то европейских языков. Это делалось и делается при полном игнорировании самобытности, оригинальности и богатства молдавского языка, его тесной связи со славянскими языками, со славянами и их предками, рядом и вместе с которыми фракийцы, а впоследствии молдаване, существуют более 3000 лет. Молдавский язык и его уникальный словарный запас были объявлены архаичными.
Такое впечатление, что кто-то поставил перед румынскими лингвистами задачу, чтобы однокорневые и односмысловые со славянскими слова были максимально заменены заимствованиями из французского, английского и итальянского языков. В результате везде, где можно, происходит замена таких слов на иностранные. К примеру, вместо старого молдавского слова «атакэ» применяется «офенсивэ», вместо «апэраре» – «дефенсивэ», вместо слова «ынвацэ» применяется «фаче студий», вместо «ынвэцэтор»– «професор» (при этом «профéссор» тоже «професóр»), вместо «ынвинуире» – «акузацие», вместо «абрикоасэ»– «каис», вместо «минже» – «балон», вместо «боалэ» – «маладие»… и так далее до бесконечности…
По этой же причине изменена (и продолжает меняться) грамматика, которая исторически идентична славянской.
При этом, как мы указывали выше, полностью игнорируется то обстоятельство, что протославянский (сарматский) и фракийский, позднее – славянский и молдавский языки развивались рядом и параллельно, а в глубокой древности – вместе, являясь ветвями единого индоевропейского языка.
Поэтому хочется обратить внимание румынских лингвистов на то обстоятельство, что наш древний язык имеет мало заимствований из славянских языков, но достаточно много общих слов со славянами. Общие со славянами слова являются не заимствованиями друг у друга, а доказательством общих индоевропейских и сармато-фракийских корней у молдаван и славян. Здесь следует напомнить, что древняя Дакия была образована сарматами (протославянами) и гетами (предками молдаван). В ознаменование этого союза и назвали столицу Дакии – Сармизегетуза (Sarmis.get.uza), наименование которой расшифровывается как союз (uza) сарматов (sarmis) и гетов (get).
Перевод столицы объединенного государства в Бухарест, последующее отстранение молдаван от власти, быстрый переток финансов, интеллектуального и научного потенциала из Ясс в Бухарест означали для валашской элиты полную победу над молдаванами в многовековом противостоянии двух близких народов. После этого главной целью бухарестской элиты стал полный отказ молдаванами от своей идентичности, их румынизация. И важнейшей задачей в достижении этой цели – сделать так, чтобы молдаване забыли старые слова, которыми пользовались наши предки, придумав для них эпитеты: «нелитературные», «архаизмы», «регионализмы» и так далее.
Делается это «изящно»: многие старые молдавские слова включаются в большинство словарей румынского языка, они там присутствуют, но размещаются в конце перечислений различных значений одного слова. Эти слова находят лишь энтузиасты.
Старые молдавские слова лаконичны, прекрасно передают смысл, глубоко национальны, но, по указанным нами причинам, не используются в учебных заведениях, их трудно найти в учебниках румынской литературы, они принципиально игнорируются элитой (политиками, писателями, журналистами и так далее). Им предпочитают валашские и иностранные (в основном французские и английские) слова. Делается все, чтобы вырвать из памяти молдаван их красивые, глубоко национальные, образные слова, используемые нашими предками. Не будет слов и выражений наших предков молдаван – не будет и нации.
Совершенно очевидно, что основой современного румынского языка является молдавская классическая литература XIX века (особенно литература первой его половины). Эту литературу создавали люди, родившиеся в молдавских семьях, воспитанные в атмосфере молдавской культуры и языка, которые они впитали с детства и которые отразились на их литературном языке и творчестве. Но язык нашей классической литературы во второй половине XIX и XX вв., в процессе формирования румынского языка, был сильно испорчен заимствованиями из иностранных языков. И в этом процессе значительную роль, к сожалению, сыграла и молдавская запрутская интеллигенция.
Почему же многие представители молдавской интеллигенции середины XIX века отказались от своих корней, приняв ошибочную версию происхождения своего народа? Очевидно, у некоторых представителей объединенной нации, отставших от соседних народов в развитии материальной цивилизации, возникают комплексы неполноценности, стремление к поискам общих корней с этими народами и желание слиться с опередившими. К сожалению, это свойство часто присуще творческой интеллигенции, получившей образование за границей, оторвавшейся от своих народных корней, которая зачастую плохо знает, не ценит и высокомерно воспринимает обычаи, традиции и народную культуру в целом.
В данном случае молдавская и валашская элита середины XIX века восприняли никем не доказанную идею римского происхождения нации. Идея нации-наследника мощной империи, очевидно, помогла двум слабым народам сформировать на каком-то этапе государство и консолидировать со временем его территорию, однако эта версия истории сегодня мешает нашим народам (молдаванам и румынам) обрести свои истинные многотысячелетние корни, не дает познать идею и миссию нации для мощного движения вперед.
Однако именно эта версия диктовала (и диктует сегодня) потребность румынских историков и лингвистов заменять исконно молдавские слова на иностранные. Этим самым они считают, что мы становимся более цивилизованными и культурными. Но это свидетельствует как раз об обратном – только плохо образованные (несмотря на хорошие оценки в учебе) некультурные люди с узким кругозором не любят, не знают и не ценят собственную древнюю историю и богатейшую народную культуру. Они, к сожалению, стесняются своего деревенского происхождения и поклоняются всему иностранному. Именно поэтому они «отменили» прекрасные молдавские слова и продвигают слова иностранного или непонятного нам, молдаванам, происхождения.
Иностранное, заимствованное во второй половине XIX и XX веках – все это имеет высокое звание литературного. То, как говорили наши предки – всего лишь регионализмы и «архаизмы», на которые не следует обращать внимание, хотя эти слова красивы, мелодичны, часто короче иностранных и прекрасно передают смысл. Исконно молдавские слова имеют глубокий смысл, их происхождение понятно, они хорошо запоминаются и способны формировать национальное самосознание и патриотизм с малых лет. К примеру, слово «fereastră» произошло от слова «а feri», но от чего произошло слово «geam»? Происхождение слова «însemnat» глубоко молдавское и его этимология хорошо понятна молдаванину, а как объяснить происхождение иностранного слова «important»? Слово «alegeri» прекрасно объясняет смысл процесса, но что объясняет простому молдаванину слово «electorală»? И т.д. и т.п.
Все это делалось и делается, вот только нам не объяснили: зачем и кому это нужно? Кому нужно, чтобы родители (не говоря уже о дедушках и бабушках) не понимали своих детей, обученных в Румынии и в некоторых кишиневских румынских школах? Это не только не нужно, но вредно для развития суверенного государства и воспитания молодежи, которая должна гордиться своим происхождением и активно участвовать в строительстве этого государства. Разумеется, если такую задачу ставят перед собой те, кто у власти!
Безусловно, современный румынский язык составляли несколько поколений образованных людей, знающих многие языки. Этими людьми во второй половине XIX века была проделана огромная работа по систематизации словарного запаса молдавского и валашского языков, получили свое звучание новые понятия и термины, которые ранее отсутствовали в молдавском и валашском языках, были изданы словари. Это нужно было сделать, так как народному языку стало не хватать слов, описывающих сложные общественные и социальные процессы, личные и экономические связи, которые стремительно развивались в XIX и XX-м веках. Языку нужно было развитие, поэтому писателями, историками и лингвистами эта работа, безусловно обогатившая язык современных молдаван и румын, была проделана. Однако, к сожалению, как отмечено выше, этой деятельности постоянно мешали политический настрой авторов языковой реформы, а также просто прямое вмешательство политиков.
И сегодня, в погоне политиков и представителей современной молдавской «интеллигенции» за иностранными «ценностями» забывается, что ни Запад, ни Восток таким способом не догнать, что это направление превращает нас навсегда в вассалов зарубежных дядь (и теть).
Единственный путь – обретение своих истоков, собственной истории, языка и культуры, обретение фундамента, от которого можно оттолкнуться в своем стремлении к лучшей жизни. И только на этой основе можно творить качественное настоящее и будущее.
С учетом огромного влияния молдавской культуры на формирование современной румынской нации, мы воспринимаем, с определенными оговорками, идею общего этноса на пространстве от Паннонии до Приднестровья, включительно. Вопрос в его названии – он может называться молдаване или даки, но никак не румыны. Мы не хотим отделять молдавский язык от так называемого румынского языка. Именно поэтому словарь, созданный при нашем содействии, назван «Русско-молдо/румынский». Мы хотим дать гражданам Республики Молдова (и не только) возможность вспомнить истинно молдавские слова и выражения и, наряду с этим, не теряться в общении с жителями Румынии, которые говорят на языке, существенно «загрязненном» иностранными, не всегда понятными молдаванам словами.
О том, что молдавские слова не хуже, а часто лучше и лаконичнее передают смысл того, что мы хотим сказать или написать, наши читатели смогут убедиться, ознакомившись с Русско-молдо/румынским словарем на сайте dictionar.md.
2.2. Истоки молдавского языка
Молдавский язык является индоевропейским языком, родственным протолатинским (протоиталийским) и иранским языкам, в его основе лежат фракийские диалекты юго-восточной Европы. Предки молдаван, гето-даки, говорили на языке, схожим с «латинским» задолго до римской экспансии в Придунайский регион. Гипотеза относительно существования тесной связи между языком гетов и латинским языком была выдвинута многими исследователями XIX и XX вв. и поддерживается авторами настоящей работы.
Сходство между молдавским и латинским языками объясняется следующими факторами:
- общий местный протоиндоевропейский субстрат народов юго-восточной Европы;
- общая индоевропейская основа (в этой части света находилась зона контакта между предками фракийцев, итало-кельтов и балто-славян);
- лингвистические заимствования, которые объясняются контактами между носителями различных языков.
Существуют гипотезы о первичности молдо-румынского языка по отношению к латинскому, однако этот вопрос практически не исследован, по политическим мотивам не финансируется государством, и остаётся пока открытым.
Наряду с высокой степенью родства молдавского и румынского языков существуют, однако, некоторые особенности развития, на которые обращено внимание ниже.
На рубеже I и II тысячелетий географическое положение, исторические обстоятельства, в том числе воздействие извне различного происхождения, предопределили особые условия развития дунайского и восточно-карпатского мира наших предков. Эти обстоятельства, с одной стороны, отдаляли южно-дунайский тип речи от северо-дунайского. С другой стороны, те же причины предопределили появление заметных особенностей речи на севере Дуная: к югу от Карпат, на внутрикарпатском плато и особенно к востоку от Карпат.
Первоначальные особенности выделили южный ареал (между Южными Карпатами и Дунаем). Другой ареал – северный – охватывал внутрикарпатское плато, и начиная с XII в. «расширился к востоку от Карпат до Днестра, создавая таким образом новые предпосылки для развития будущего молдавского идиома» (Н. Раевский). Эта этноязыковая реальность была отмечена Мироном Костином, который в 1686 г. писал, что население «этих мест, поредевшее после татарских набегов… ушли эти отсюда в Марамуреш, те из Страны Мунтянской (Валахии) к Олту. Переходя горы, изменили и речь».
Как доказали известные языковеды Ал. Филиппиде, Ал. Росетти, В. Шишмарев, Н. Корлэтяну, Н. Раевский и др., процесс освоения волохами восточно-карпатских земель подтверждается данными топонимии, «определенными фонетическими и морфологическими чертами молдавского языка», исследуемыми с особой тщательностью молдавским филологом Н. Раевским.
Исследования Л. Полевого, П. Бырни, Н. Корлэтяну, А. Еремии и др. в области исторической географии, топонимии, направлений переселения волохов с соседними народами; их выводы, основанные на широком документальном материале, подтверждают, что «начиная с середины XIV в. восточно-карпатское население вступает в новую этническую эпоху своей истории — молдавскую эпоху.
В отличие от предшествующих этнических эпох, которые из-за отсутствия документальных данных менее исследованы, молдавская эпоха, напротив, широко представлена в разных источниках. На данный момент мы располагаем достаточно богатой научной литературой, в которой исследуются существенные стороны жизни местного восточно-карпатского населения на протяжении более шести веков его существования: общественно-экономический строй, политическая система, культура, наука и др.
На протяжении более 650 лет со времён основания Молдовы (1359 г.), язык восточно-карпатской общности, развиваясь в регионе, изолированном от других территорий проживания родственных молдаванам народов, приобрел определенные особенности, которые связаны главным образом с сохранением в языке старых молдавских слов, полноценно и емко воспроизводящих смысл сказанного и написанного.
2.3. Латинские и славянские элементы, общие с молдавскими
В молдавском языке общий с латинским словарный фонд был и остается основным, самым значительным как в количественном, так и в качественном отношении. Большая часть слов этого фонда имеет общие черты и в фонетике, и в грамматике, и в лексике.
Слова общие с латинскими и славянскими, лексемы с фракийско-гето-дакскими корнями, отличными от латинских и славянских, а также заимствованные элементы составляют основной словарный фонд молдавского языка.
Основные слова в молдавском языке сходны с латинскими. Например:
- части тела: кап – «голова», мынэ – «рука», фацэ – «лицо», пэр – «волос», нас – «нос», уреке – «ухо», лимбэ – «язык», пеле – «кожа», инимэ – «сердце», ос – «кость» и др.;
- предметы и явления природы: апэ – «вода», чер – «небо», гяцэ – «лед», мунте – «гора», рыу – «река» и др.;
- родственные связи: пэринте – «родитель, отец», сорэ – «сестра», непот – «внук, племянник», фиу – «сын», бэрбат – «мужчина, муж» и др.;
- животные, птицы, насекомые: кал – «лошадь», капрэ – «коза», кыне – «собака», черб – «олень», епуре – «заяц», луп – «волк»; гэинэ – «курица», фурникэ – «муравей», мускэ – «муха» и др.;
- деревья, растительность: пом – «дерево», плоп – «тополь», мэр – «яблоко, яблоня», ярбэ – «трава», фрунзэ – «лист» и др.;
- зерновые: пыне – «пшеница, хлеб», секарэ – «рожь», ОРЗ – «ячмень» и др.;
- предметы материальной культуры: касэ – «дом», роатэ – «колесо», ушэ – «дверь», ферястрэ – «окно», кар – «воз» и др.;
- известные металлы: фер – «железо», арамэ – «медь», аур – «золото», аржинт – «серебро» и др.;
- дни, месяцы, времена года: аугуст – «август», зи – «день», ан – «год», сарэ – «вечер», ноапте – «ночь», лунь – «понедельник», марць – «вторник», ярнэ – «зима» и др.;
- слова, относящиеся к социально-политическому устройству государства: царэ – «страна», четате – «город, крепость», леже – «закон», стат – «государство» и др.
Все это лишь очень малая часть общих с латинским языком слов, охватывающих и множество имен прилагательных: алб – «белый», верде – «зеленый», негру – «черный», рошу – «красный», плин – «полный», калд – «теплый», бун – «хороший», сек – «сухой» и др.
Местоимения и большинство глаголов в молдавском и латинском языках также сходны.
Слова основного фонда в молдавском языке, сходные с латинскими, обозначают важные, повседневные, жизненно необходимые понятия, действия, предметы. Этим объясняется высокая частота этих лексических единиц в разговорном, литературном молдавском национальном языке вообще.
Очевидно, что часть (меньшая) слов могла быть заимствована у латыни, как у родственного и наиболее развитого на момент формирования молдавского литературного языка. Однако следует отметить, что многие слова в индоевропейских языках имеют общий языковый субстрат и существующие теории о первичности одних индоевропейских языков по отношению к другим имеет весьма поверхностную доказательную базу и основаны иногда на политическом интересе заказчиков лингвистических исследований.
Важным фактором, который индивидуализировал, придал особенности и своеобразие типу речи населения Карпатско-Днестровского ареала являются слова, общие со славянами языками.
В молдавском языке выделяются несколько пластов лексики сходной славянской. Самый древний относится к временам индоевропейского сообщества и контактов между фракийцами, протославянами и древними славянами. Другой – составляют заимствования, характерные и для других языков: бабэ, колак, невастэ, коасэ, ранэ, гол, слаб, дэруеск, милэ и др.
Суммируя и обобщая приводимые свидетельства об общем со славянским словарном фонде в молдо-румынском языке, можно заметить, что существуют три категории слов:
- Слова, относящиеся к древнему периоду, к временам индоевропейского сообщества и контактов между фракийцами, протославянами и древними славянами;
- Общие с древнеславянскими — болгарскими и сербскими;
- Общие с восточнославянскими языками, слова, характерные только для молдавского языка, которые индивидуализируют, выделяют его, придают ему особые черты, определяют его специфику, своеобразие и очарование: «дулчеле грай молдовенеск» — сладкозвучная молдавская речь.
Общие с славянскими слова бич, боалэ, боер, болнав, глумэ, клае, кырмэ, колц, ланц, пагубэ и др. встречаются не только в молдавском языке, но и валашском/румынском.
То же самое можно сказать о словах: ахотэ, балер(кэ), болницэ, борона, борта (укр. борт), бухай, а дуби, а гили (укр. билити), каляскэ, картуз, коромыслэ, корь, кочорвэ, лейкэ, лозие, скрипкэ, струнэ, хорн, хрубэ, толоакэ, харбуз, хряпкэ, хулуб, чуботе и др., которые придают молдавскому языку особые характерные черты.
Следствием географического положения и культурно-политических отношений являются заимствования из польского языка, процесс давно известный и подробно изученный молдавскими учеными. Ещё Дм. Кантемир отмечал (в «Описании Молдавии»): «Те, которые живут у Днестра, используют много польских слов и особенно много домашней утвари называют польскими словами».
В наше время, по наблюдению академика Н. Корлэтяну, «можно аттестовать более 350 польских слов, которые употребляются, особенно молдавскими летописцами: окоп, ротмитру, подгяз, хатман, жоймир, хашкэ, панцыр, скижэ, паланкэ, херб, шляхтэ, моцпан, злот, потроник, талер и др.
В качестве дифференцирующих элементов следует отметить и топонимы в восточнославянском фонетическом обрамлении: Хородка, Хородиште, Солонец, Солотвино и др., а также Колинкэуць, Дубэуць, Ванчикэуць, Тэрэсэуць и др.
Особо индивидуализируют молдавский язык, подчеркивая его общепризнанное своеобразие, молдавские говоры левобережья Днестра, сохранившие уникальные слова и породившие новые формы.
В молдавских говорах левобережья Днестра сохранились слова, которые можно смело отнести к протолатинским: анинэ<lat.arena «песок», морвэ<lat. morus «шелковица». Здесь бытуют древне-молдавские формы, малоизвестные в Румынии: дулаукэ «сука», тулпан «толстый платок», гэлятэ «ведро», мынештергурэ «полотенце», китороагэ «холодец» и др.
Приводимые заключения и обобщения подтверждают особенности молдавского языка, его унитарный характер во времени и пространстве: с раннего средневековья и до наших дней, от Кодымы (Левобережье Днестра) до севера Трансильвании.
Таким образом, одной из коренных особенностей молдавского общества является то, что, наряду с бесценными, уникальными памятниками материальной, духовной культуры, оно создало удивительно богатый по своему словарному составу и по художественному фонетико-стилистическому разнообразию свой национальный молдавский язык. Его традиции настолько глубоки, что молдаване до XX в. сохранили и используют, особенно в художественных текстах, свой национальный месяцеслов (январь – жерар, февраль – фэурар, март – мэрцишор, апрель – приер, май – флорар, июнь – чирешар, июль – куптор, август – густар, сентябрь – рэпчуне, октябрь – брумэрел, ноябрь – брумар, декабрь – ундря), созданные ими народные названия месяцев, которые впервые были зарегистрированы В. Александри и использованы в произведениях молдавских писателей и фольклористов П. Испиреску, М. Садовяну, того же В. Александри, и современными авторами.
2.4. Молдавский язык – основа общего литературного языка
Разумеется, эти и другие очевидные общеизвестные свидетельства различия не затрагивают общую литературную форму речи, которую молдаване около 700 лет называют «молдовеняскэ» (молдавская), а валахи назвали в XIX веке «ромыняскэ» (румынская). При этом почему-то отсутствуют документальные свидетельства, как называли валахи свой язык до середины XIX века.
Выводы Н. Корлэтяну и Н. Раевского, многих других языковедов подтверждают заключение румынского академика Йоргу Йордана: «Язык, на котором говорят на той и на этой стороне Милкова (река, граница между Молдовой и Валахией), имеет местные особенности, характерные для каждой провинции… Силой обстоятельств молдавская речь выполняла для жителей провинции, которые на нем говорили, роль языка всего народа». (В примечании Й. Йордан уточняет, что его заключение относится и к мунтянскому говору). Молдавский язык, увековеченный И. Некулче, «имел, следовательно, особое положение, я бы сказал, привилегированное…», – писал Йоргу Йордан.
Свое справедливое и обоснованное заключение Й. Йордан сформулировал в годы, когда было в зените творчество патриарха молдавской литературы М. Садовяну, когда заявили о себе молдаване Николай Лабиш, Виктор Телеукэ, Чезар Ивэнеску, Ион Друцэ… На молдавском языке писали, прославляя свой край Василе Погор, Калистрат Хогаш, Михаил Когэлничану, Алеку Руссо, Василе Александри, Михаил Эминеску, Ион Крянгэ, Алексей Матеевич – «молдаване, совершившие нашествие в историю румынской литературы», творцы, которые, подобно М. Эминеску, «употребляли молдавские формы, будучи молдаванами».
То, что М. Эминеску создал свои бессмертные поэтические произведения, жадно припадая к живому источнику молдавского языка, то, что он высоко ценил молдавскую речь, подтверждал и И. Славич, который писал, что «по мнению Эминеску, самым приятным и самым богатым по звучанию является молдавский говор».
Подчеркивая «роль Молдовы» в стараниях «защитить язык от покушений новаторов» и осознавая «культурную роль Молдовы, ее роль как учителя румын во всем мире», М. Эминеску подчеркнёт (в статье «Репертуар румынского театра»): «Молдова играет важную роль в развитии румын. Здесь, в большой удалённости от интеллектуального шарлатанства, самодовольства и коррупции политического центра (Бухареста) создалась благотворная реакция против невежества и духа неправды и академиков».
Обсуждая проблему начала современного литературного языка, Ученый совет Института языкознания в Бухаресте установил, что как в отношении идейного содержания, так и в отношении языка, наша современная литература начинается в первой половине XIX в. с писателей, объединившихся вокруг молдавского журнала Dacia literară, основанного в Яссах, в 1940 году. В их центре стояли М. Когэлничану, Василе Александри, Алеку Руссо, Костаке Негруци… Употребляемый этими писателями язык утвердился как язык нашей современной литературы, потому что в его основе находилась живая речь народа». (DLRLC, I, 1953). Молдавского народа, несомненно. Потому что все эти писатели, как позднее М. Эминеску, И. Крянгэ, М. Садовяну и многие другие – молдаване, родились, жили в Молдове, писали по-молдавски и о Молдове.
Неопровержимыми доказательствами существования отличительных особенностей – фонетических, грамматических, лексических – языка, на котором говорят молдаване, сладкозвучного молдавского языка, являются регистры объясненных слов, сопровождающих по сегодняшний день румынские издания произведений И. Крянгэ, М. Эминеску, К. Хогаша, М. Садовяну. Слова и формы, разъясненные для валахов/румын. Молдаване их хорошо знают, потому что они создали это богатство.
Таким образом, всё вышеупомянутое представляет собой убедительное доказательство того, что валашский/румынский язык является диалектом молдавского языка. Это подтверждается и другими многочисленными фактами, а именно:
- уже в XVII веке были написаны пространные тесты на молдавском языке: летопись Гр.Уреке (1635), летопись М.Костина (1675);
- первые исследования в области лингвистики молдавского языка были написаны также в XVII веке: «О нашем молдавском языке» (1635) Гр. Уреке, «О молдавском языке» (1677, на польском языке) М. Костина и, таким образом, лингвоним «молдавский язык» проникает в европейские научные круги;
- произведения молдавских писателей, относящиеся к периоду после 1840-го года (М. Когэлничану, В. Александри, К. Негруцци, Ал. Руссо и др.), заложили основу литературного языка, общего для молдаван и валахов.
Молдовенизмы, записанные в современных словарях, включая те, что были изданы в Румынии, можно дополнить примерами из Гр. Уреке, Мирона Костина, Иона Некулче, М. Эминеску, К. Хогаша, И. Теодоряну, Н. Лабиша, из произведений П. Боцу, Гр. Виеру, В. Телеукэ, А. Лупана, П. Заднипру, Г. В. Мадана, Н. Костенко, Иона Друцэ и др. Наибольшее количество наглядных примеров можно найти у И. Крянгэ, М. Эминеску, М. Садовяну. Чаще всего приводятся цитаты из М. Эминеску, и это абсолютно естественно, так как, по утверждению академика А. Росетти: «Эминеску употребляет в своих стихотворениях большое количество слов и выражений из языка, на котором говорят в Буковине и в Молдове», то есть характерных для языка молдаван, для молдавского языка. А поскольку это «большое количество слов и выражений из языка, на котором говорят в Буковине и в Молдове» неизвестно или непонятно валахам, в румынских словарях они отнесены к категории «обиходных» (кухонных, надо полагать), «народных». То есть формы, слова, выражения, использованные М. Эминеску, которые «обогатили наследие национального языка» (А. Росетти) не удостоились права считаться общеупотребительными, литературными румынскими. Эта дискриминация молдавских слов и выражений, используемых М. Эминеску, не должна задевать национально-лингвистическое самосознание молдаван. Согласно Толковому словарю румынского языка, «народное» (popular) означает «созданное народом», таким образом, в случае Эминеску – молдавским народом. Народное ещё означает «характерное для данного народа», то есть для молдавского народа. Таким образом, румынские словари ещё раз подтверждают вывод Перпессичиуса (румынского критика), что «Эминеску, будучи молдаванином, демонстрирует естественную предрасположенность к формам, связанным с его происхождением, молдавским формам».
Произведения, созданные наиболее одарёнными представителями молдавского народа – от анонимного автора «Миорицы» и Григоре Уреке и до Иона Друцэ – отражают многовековую историю молдаван, местные обычаи и повседневную жизнь, чаяния и надежды. Непреходящий характер и индивидуальность молдавской духовности заключается в народном творчестве молдаван, в сладкозвучном молдавском языке, в котором увековечены характер молдаван, их характерные этнопсихологические черты, уходящие корнями в незапамятные времена. «Самые лучшие наши писатели (…) являются и самыми лучшими знатоками языка… Те, кто обладает более богатым и красивым языком, все причастились к величайшему источнику народного языка: Эминеску, Садовяну и несравненный Крянгэ. Крупнейший писатель – этот Крянгэ – на самом деле из народа, он пишет, как люди говорят» (Г. Ибрэиляну). То есть пишет по-молдавски (см. регистры молдавских слов в изданиях книг Крянгэ с 1890-го года до сегодняшнего дня).
Анализируя лингвистические особенности Молдовы, академик И. Иордан заключает: «Региональные особенности языка И. Некулче в целом совпадает с особенностями современного молдавского диалекта, с яркими различиями, которые носят скорее количественный, чем качественный характер…». Другой известный румынский толкователь Дж. Кэлинеску заключает, подчёркивая очарование, артистизм и музыкальность, творческие возможности молдавского языка: «молдавский говор, мягкостью своей тональности, является художественным сам по себе. В Мунтении (Валахии) менее вероятно появление Некулче или Крянгэ…».
В связи с этим весьма кратким набором принципиально важных истинных утверждений, более чем своевременно заключение ученого совета Института лингвистики в Бухаресте, который установил, «что с точки зрения идейного содержания наш современный литературный язык берёт начало в первой половине девятнадцатого века, его зарождение связано с группой писателей, которые сотрудничали с журналом Dacia literară, во главе с М. Когэлничану, В. Александри, А. Руссо, К. Негруцци, которые были первыми поборниками единства нашего языка и культуры. Язык, на котором творили эти писатели, стал языком нашей литературы, потому что в основе него лежит живой источник народной речи». Как мы уже понимаем, все перечисленные выше писатели были молдаванами, писали на молдавском языке и творили литературу. Молдавскую…
Во второй половине девятнадцатого века «используя определённое количество слов и фраз народного языка, на котором говорят простые люди (в Молдове и Буковине), Эминеску расширил границы художественного стиля литературного языка, – заключает академик Ал. Росетти, – и в то же время придал характерные черты своему гению». Молдавского, потому что он был молдаванином.
В заключение напомним две идеи, сформулированные видными румынскими авторами:
- Румынская культура, такая, какая она есть сейчас – благодаря Молдове (Г. Ибрэиляну)
- Свою силу язык черпает в основном из Молдовы (Г. Кэлинеску).
Эта истина была художественно и с выдумкой высказана в стихотворении молдавского поэта Павла Старости, опубликованном в кишинёвской газете «Гласул Молдовей»:
Mama limbii româneşti
Fie el cît de mirific,
Fie cît de inventiv,
„Adevărul ştiinţific,,
Este foarte relativ.
Veci de veci nu se mai schimbă
Ce ni-I dat de sus în dar,
Cearta noastră despre limbă
E-o furtună în pahar.
Nicăieri nu sînt pe lume
Două limbi cu-acelaşi nume,
Dar sînt, drept nu-totdeauna,
Două nume pentru una.
Unii zic că e otravă,
Dar de stai să te gîndeşti,
Limba noastră cea moldavă-i
Mama limbii româneşti.
Несомненно, семантические, фонетические варианты, исследованные выше, включая те молдавские слова, которые стали практически общеупотребительными в восточно-карпатском и южно-карпатском лингвистическом ареале, не затрагивают общность постоянной лингвистической базы, грамматической структуры и происхождения молдавского национального языка и румынского национального языка, понимание на литературном уровне обоих языков их носителями.
Сохраняя каждый свою индивидуальность и отличительные признаки, молдавский и румынский национальные языки постоянно развивают своё главное постоянное качество – быть понятными для носителей обоих языков.
3. О роли молдавской культуры в становлении культуры Румынии
С момента своего основания (середина XIV века) до 1862 года, развитие Молдовы происходило в особых геополитических и культурных условиях, что предопределило становление государства и утверждение в сознании граждан этого государства этнонима «молдаванин» и национального чувства молдаван – молдовенизма.
Будучи результатом симбиоза византийско-славянских религиозных ценностей и народного творчества, имеющего фракийскую основу (баллад, легенд, героических песен, иконографии, настенной живописи, церковной архитектуры и др.), древняя молдавская культура явилась отражением образа жизни народа, живущего между Карпатами и Днестром – всего того, что предопределило и закрепило национальное самосознание общности, которая называла себя и была названа другими народами – молдаване.
Половина тысячелетия совместной жизни в общем государстве – Молдове, пять веков совместной борьбы за защиту его рубежей, пятьсот лет (1359-1862) неустанных трудов ради ее процветания окончательно утвердили национально-государственное сознание молдаван, которое способствовало приданию некоторых специфических черт молдавскому культурному наследию, выделив его не только с количественной, но и с аксиологической точки зрения, – по идейной направленности, концепциям, содержанию и художественному уровню.
В этой связи напомним, что именно в Молдове, а не в какой-то другой части Юго-Восточной Европы, были написаны – уже в XV веке! – первые, собственно говоря, исторические труды – молдавско-славянские летописи, заложившие основу молдавской историографии, наметившие естественным образом особый путь письменной истории Молдовы.
Те 12 историй Молдовы (включая Рэзбоенскую надпись, 1496), от Анонимной летописи Молдовы (называемой «Бистрицкой», 1359-1507) до Молдавско-славянской летописи Азария (1551-1574), из которых три предназначены для европейских историографических кругов: Молдавско-русская летопись (1359-1504), Молдавско-немецкая летопись (1457-1499), Молдавско-польская летопись (1352-1564) – представляют собой уникальный феномен, обладают особой ценностью и являются основой молдавской культурной традиции. «От Теоктиста (митрополита Молдовы в середине XV-го века) начинается непрерывный ряд книжников, писавших на славянском языке в то время, когда в Валахии непрекращающиеся битвы за власть заглушали стремления родственного народа к свету, к искусству». (Н. Йорга, 1925). Молдавские исследователи множество раз констатировали: «Характерен, например, тот факт, что в Мунтении (Валахии) того же периода не существовало никакой хронографии в подлинном смысле слова».
Первые работы, посвященные истории Молдовы, относятся ко времени Штефана Великого, который «обусловил своими воинскими подвигами начало молдавской исторической литературы на славянском языке».
Молдавско-славянская хронография, не имеющая аналога в восточном ареале родственных молдаванам народов, обосновала и удостоверила особый, самостоятельный характер Молдавского государства и молдаван, индивидуализировав и выдвинув на гораздо более передовые позиции, по сравнению с соседними странами, письменную историю Молдовы и культурные достижения молдавского народа. Согласно выводам молдавских ученых, «Молдавско-славянские летописи вместе с церковными книгами и апокрифическими повестями заложили основу той культурной молдавской традиции, которая отличает ее носителей от представителей культуры других народов».
В XVII веке молдавская письменная культура становится национальной по форме выражения: отказывается от славянского письма и утверждается на молдавском языке. С помощью высокого иерарха, митрополита Киевского и великого молдавского книжника Петра Мовилэ в Молдове учреждается Славяно-греко-латинская академия, первое среднее и высшее учебное заведение Молдовы. Открывается первая молдавская типография, где печатают свои работы на молдавском языке знаменитые молдавские просветители, митрополиты Молдовы Варлаам и Дософтей, духовный вклад которых остается в своём роде непревзойденным.
Бесценное культурно-историческое и научное молдавское богатство: истории (летописи) Гр. Уреке, М. Костина, Н. Костина, И. Некулче на молдавском языке, основной труд Д. Кантемира «Описание Молдовы» (на латинском языке), историко-этнологическая монография «О молдавском народе» М. Костина, другие творения просвещенного логофета – утвердили имя Молдовы и молдаван в европейском ансамбле культурно-исторических и научных достижений.
К сожалению, кроме Константина Кантакузино столника, Валахии похвастать на этой выставке культурных достижений особо нечем.
Присоединение молдавской территории между Прутом и Днестром в 1812 году к России навязало новые социально-экономические и политические условия для развития молдавской духовности. Ставший границей в 1812-м году, Прут не прервал полностью движение в обоих направлениях, не разъединил молдавскую духовную общность – молдовенизм, не помешал обмену идеями и ценностями, преемственности молдавской культурной традиции, процессу обогащения и совершенствования ее общей формы выражения. «Многовековое историческое развитие, общность культурных традиций, образовавшихся в течение столь долгого времени и, наконец, общность языка, столь же естественная в данных условиях», не могла не сохраняться у молдаван на обоих берегах Прута.
К началу XIX века Молдова имеет культурную традицию, основанную на «старинной культуре, которая была более развита в Молдове, чем в Валахии». Если до 1880 года Валахию характеризует революционная борьба со старым режимом, то в Молдове, параллельно, развивается культура, которая будет перенята Румынией.
В этом контексте следует упомянуть утверждения некоторых выдающихся деятелей культуры XIX – начала XX веков, по словам которых, Молдова как хранительница традиции «главенствовала в процессе создания современной румынской культуры», «…Молдове принадлежит заслуга председательствовать в течение 40 лет, с 1840 по 1880, в усвоении культуры во всех ее формах». «Румынская культура такова, какая она есть сегодня, благодаря Молдове» (Гарабет Ибрэиляну, 1909)
Так же, как А. Руссо или В. Александри, М. Эминеску «понимает культурную роль Молдовы, её роль учителя всех румын». М. Эминеску подчеркнёт (в статье «Репертуар румынского театра»): «Молдова играет важную роль в развитии румын. Здесь, в большой удалённости от интеллектуального шарлатанства, самодовольства и коррупции политического центра (Бухареста) возникла благотворная реакция, направленная против невежества и духа неправды академиков».
В конце XIX – начале XX веков в Румынии основные направления в литературе и культуре практически всегда имели отправной точкой Молдову или молдаван. Так, политическая и социальная история, история языка и литературы в основном развивается молдаванами, среди которых: М. Когэлничану, Б.П. Хашдеу, А.Д. Ксенопол, А. Ончул, Н. Йорга, Р.Росетти, А. Филиппиде, Н. Денсусяну и др. Молдова дала Румынии всех наиболее выдающихся историков, писателей, музыкантов и художников.
Первые собиратели народной поэзии и первые теоретики народничества (ещё в 1840-м году) также появились в Молдове, где работали наиболее выдающиеся фольклористы – С. Ф. Мариан и Тудор Памфиле.
Следует отметить, что и «королевская линия румынской поэзии берёт начало от Александри, далее через Эминеску, Баковию, Лабиша, а после них пришли мы. Все эти великие поэты являются молдаванами, это королевская линия, потому что ни жители Трансильвании, ни Мунтении не имеют такой мощной традиции» (Чезар Иванеску, 2001).
Своим вкладом наиболее выдающиеся представители молдавской культуры, начиная со средневековой эпохи и до начала XX века, чётко осознавали и преследовали ясную цель: защитить свой язык и литературу от денационализации.
В ХХ веке положение молдавской культуры между Прутом и Милковом перешло на положение провинциальной: каток мунтянизации-олтенизации подорвал позиции «золотой плаценты молдавской культуры», возникшей, определившейся и распространяемой из Молдовы, из «милого сердцу города Яссы».
Однако, в любом случае, румынская культура ХХ века выросла и оформилась на фундаменте, построенном выдающимися молдаванами – деятелями культуры прошлых периодов, на основе молдавской духовности, при активном участии молдаван, именуемых румынами. Это наглядно видно, если проанализировать биографии крупнейших деятелей румынской культуры ХХ века. Выяснится, что многие из них родом из Молдовы либо из семей молдаван, сформировались как личности в молдавской духовной среде. Здесь достаточно упомянуть только Михаила Садовяну, Николая Йоргу, Мирчу Илиаде, Чезара Петреску, Адриана Пэунеску…
4. О роли молдаван в создании Румынии
После заключения мирного договора 16 мая 1812 года, которым завершилась очередная, но не последняя русско-турецкая война, Османская империя уступила России свои бессарабские райи и не возражала против перехода к России территории между Прутом и Днестром, принадлежащей Молдове.
С 1812 года запрутская Молдова (без Буковины) и Валахия существовали в разных экономико-социальных условиях, в разном социально-политическом и духовном контексте по сравнению с условиями, в которых развивалась Молдова между Прутом и Днестром или «Восточная Молдова». Валахия и Молдова между Карпатами и Прутом (без Буковины) находились под турецким владычеством, дополненным российским протекторатом, который распространялся и на Валахию. Молдаване с правого берега Прута и валахи оставались под тройным гнётом: платили дань османам, испытывали давление русской администрации, их обирали мелкие сошки, фанариоты, и духовно душили греческой политикой.
После 1812 года молдаване между Прутом и Днестром впервые в истории были освобождены от налогообложения, прочих выплат и обязательств, в том числе и от военной службы. Новый режим сохранил местное законодательство и не ввел крепостничество. В 1822 году молодой молдавский боярин Ионикэ Тэуту дал старт движению, чтобы молдавские бояре с правого берега Прута имели те же права, что и бояре с левого берега.
Движение распространилось и на Валахию. Идея консолидации сил Молдовы между Карпатами и Прутом (без Буковины) и Валахии была выражена в органических регламентах, разработанных под руководством русского наместника Павла Киселева – документах с конституционными прерогативами, вступивших в силу в Яссах и Бухаресте в 1831 году. Эта прогрессивная идея для того времени и тех условий была окружена и другими событиями, произошедшими в Европе в середине XIX века. Революционные волнения 1848-1849гг., Крымская война(1856г.) имели радикальные последствия для Молдовы с правого берега Прута и Валахии. С этого периода роль молдаван – людей культуры, писателей, историков, публицистов боярского сословия, обученных в молдавских учебных заведениях и зарубежных странах – в движении по объединению Молдавского и Валашского княжеств, становится ярко выраженной, их действия становятся более энергичными и последовательными. Теперь хронология событий, состав участников, сообщения в изданных документах демонстрируют главенствующую роль молдаван в этой политической опере с трагическими последствиями для Молдовы.
Элита молдаван, будучи более образованной, чем валахи, опираясь на свою богатую культуру и историю, хорошо осознавая братскую связь между двумя народами, опасаясь за будущее своего ослабленного государства, возглавили движение за объединение.
В марте 1848 года группа молдавских бояр, в том числе Александр И. Куза и М. Когэлничану, обсуждали «список желаний». Позже отредактированный М. Когэлничану, он был опубликован под названием «Желания национальной партии Молдовы». Инициаторы этого документа решительно выступали за полную автономию Молдовы, желая объединения княжества Молдова (без Буковины) и Валахии. «Революционная программа молдаван» была опубликована 12 мая 1848 года, и ее подписали К. Негри, братья Василе и Ион Александри, Г. Кантакузин, М. Костаке, А. Русу, Гр. Балш, Захария Молдовану, Г. Сион и др. Шестой пункт этого документа предусматривал объединение Молдовы (без Буковины) и Валахии.
«Валашская революционная программа 1848 года» принятая 9 июня 1848 г. в Ислазе никакого объединения Валахии с Молдовой не предусматривала.
Завершение Крымской воины и Парижская конференция 30 марта 1856 года лишили Молдову российского протектората. Молдова с правого берега Прута оставалась под властью Турции и европейских держав. Как побежденная страна Россия была лишена выхода к Дунаю: уезды Болград, Кагул, Измаил вернулись в состав Молдавского княжества. Эти обстоятельства дали дополнительные стимулы большей части молдавской элиты в ее начинаниях к объединению. Молодые, романтически настроенные революционеры Александр И. Куза, М. Когэлничану, В. Александрии, З. Молдовану, К. Негри и др., опираясь на прославленное прошлое Молдовы, богатую культуру, проявили энтузиазм, как они думали, во имя процветания Молдовы.
Еще с сентября 1857 года во время выборов в Молдове и Валахии диванов (парламентов) Ад-Хок (учрежденных Парижской конференцией 30 марта 1856 года) появились первые знаки беспокойства: состряпанное на скорую руку объединение ущемляло права Молдовы, было в опасности само существование княжества. В Молдавском княжестве поднялось большое волнение. «Было много разговоров…, противоречий, идей» потому что «бояре хотели объединения по уговору, а молодые хотели безоговорочного объединения. Как было и сделано», с горестью отметил Ион Крянгэ в 1882 году.
Находящиеся в замешательстве от валашской кампании за необдуманное объединение, встревоженные «происками Австрии и Турции, которые нападали на молдаван», Александр И. Куза, М. Когэлничану и др. были взволнованы судьбой Молдовы. Всё яснее становилось, что объединение, побужденное иностранными силами «приносило Мунтении (Валахии) только пользу…Молдова должна была принести большие жертвы на алтарь объединения, даже само своё существование как государства» (И. Лупаш, 1937).
Валашские мошенничества не замедлили проявить себя. Последовали «подлые комедии и бесстыдные обманы» (И. Лупаш) с аннулированием выборов в диване Ад-Хок в Молдове. Вопреки решениям, принятым на Парижской конференции 30 марта 1856 года, 24 января 1858 года в Бухаресте последовали выборы Дивана, на которых Александр И. Куза был избран господарем Валахии, несмотря на то, что 5 января 1858 года он был избран господарем Молдовы. Казалось, что молдаване только выиграют: Александр И. Куза, господарь Молдовы, стал господарём и Валахии. На самом деле – это был валашский сговор с молодыми неопытными молдавскими революционерами-романтиками, поддержанный великими державами. Валашская хитрость привела в короткий срок к исчезновению Молдовы. Началась кампания по тотальной валахизации молдавских отношений, по «приватизации» молдавского культурного наследия.
Молдаване выступали за объединение Валашского и Молдавского княжеств, а не за аннексию Молдовы Валахией. Активные действия, решительная позиция и последовательность некоторых известных политиков, таких как Александр И. Куза, М. Когэлничану и других молдаван, сыграли ключевую роль в объединении. Как считали наши, образованные и романически настроенные патриоты: в равноправном объединении княжеств.
В скором времени валашско-унионистская партия занялась созданием «Большой Валахии», закамуфлированной под названием «Румыния». До создания Румынии, объединяющие административные функции были сконцентрированы в Бухаресте, согласно решениям Парижской конференции 19 августа 1858 года, а объединенное государство получило название «Соединенные провинции Молдовы и Валахии».
Молдаван Михаил Когэлничану, активный зачинщик объединения княжеств, был премьер-министром Румынии в течение двух лет (1863-1865); в 1877-1878 г. был министром иностранных дел Румынии, но был изгнан из правительства валахом, ставшим румыном И. Брэтиану.
Молдаванин Александр И. Куза, активный борец за объединение, был первым главой объединенного государства, правил 8 лет и 2 месяца. В феврале 1866 года «чудовищная коалиция» свергла его с трона. Первый и последний молдаванин, господарь Румынии, Александр И. Куза, активный политический деятель был изгнан из Румынии. Умер в 1873 году в Германии.
Нарушение решений молдавского дивана Ад-Хок, игнорирование решений Парижской конференции 19 августа 1858 года, ликвидация самостоятельного Молдавского княжества, унижение господаря Молдовы Александра И. Кузы и изгнание его из страны, возведение на трон иностранного правителя, чуждого по вере, языку и поведению, довели до пика возмущение молдавского общества. Как свидетельствует румынский историк И.Лупаш, беззаконие, совершенное «чудовищной коалицией», спровоцировало «усиление молдавского сопротивления, которое повлекло за собой кровавые столкновения в Яссах…».
Временное бухарестское правительство, напуганное «сильным противостоянием жителей Ясс, отправило валашского генерала Н. Голеску в Яссы с поручением подавить любое сопротивление молдаван.
Некоторые из молдаван ожесточились против иностранного господаря, сгруппировались вокруг боярина Николая Розновану, под руководством которого был создан сепаратистский Комитет. Своей активной пропагандой они перетянули на свою сторону митрополита Калинника Миклеску. В первое воскресенье апреля (1866 г.), когда после службы Кафедральный собор был переполнен людьми, митрополит вышел перед недовольной толпой и отправился к Административному дворцу. Перед уходом, во дворе митрополии Теодор произнес пламенную речь о правах Молдовы, призывая народ последовать за митрополитом Калиником. Но у дворцовых ворот толпа была встречена валашскими солдатами, которые не отступили даже перед крестом митрополита. Один из солдат ударил митрополита штыком. Калиник вскрикнул от боли, а после упал без сознания на землю. Разъяренная толпа набросилась на солдат с камнями, но была взята в штыки и вытеснена назад к митрополии». Эти беспорядки продолжались до двух часов дня и сопровождались большими человеческими жертвами, введя в печаль молдавскую столицу.
Итоги «Великого объединения» печальны для молдаван. За годы, прошедшие с тех пор румынская (валашская) администрация в Бухаресте предприняла все меры, чтобы молдаване забыли свое имя, язык и свою историю, превратив молдавский народ в часть регионального фольклора Великой Румынии, присвоив себе молдавские культуру и язык, существенно его подпортив иностранными словами.
Молдова, из значительно более развитого в культурном и экономическом плане государства, чем Валахия, в короткий срок превратилась в самую отсталую провинцию Румынии. В качестве примера можно привести положение в княжествах перед объединением Молдовы и Валахии в середине XIX века. Молдова, которая лишилась Бессарабии и Северной Буковины, имела значительно более развитую экономику и культуру, чем соседняя Валахия, обладающая существенно большим числом населения и большей территорией. К примеру, в 1845 году в Яссах проживало 65.000 человек, в Бухаресте – 35.000 человек. В Молдове были высшие учебные заведения (Михайлянская академия и Консерватория в Яссах), в Валахии их не было. В Молдове было зарегистрировано 21863 купцов и ремесленников, в значительно более населенной Валахии – 14747. Еще раз подчеркнем, что на протяжении столетий, даже в самые трудные времена, Молдова была богаче, развитее и культурнее Валахии. И на протяжении этих же столетий росло желание валашской элиты (румын) присвоить эти достижения молдаван или, на худой конец, стать частью этих достижений. Во второй половине XIX века элите Валахии (румынам), которые воспользовались простодушием охваченных объединительной эйфорией молодых молдаван, с помощью хитрости и коварства это удалось – молдавский господарь-объединитель Александр Иоан Куза был изгнан из Бухареста, молдаване лишились наименования государства, народа, языка, молдавская литература, музыка и искусство стали румынскими, экономика Молдова стала приходить в упадок, мельчали города. И на этом фоне расцветали Бухарест и его окрестности. И, наконец, как символ окончательной победы валахов (румын) над молдаванами, гербом объединенного государства стал валашский орел с плененным молдавским зубром на груди. Как результат этого «братского» объединения, к концу XIX века население Ясс уменьшилось до 55.000 человек, в то время как население Бухареста увеличилось до 150.000 человек. Такая же картина и сегодня: Бухарест в 6 раз больше Ясс, в нем сосредоточено более 50% финансовых активов Румынии, а запрутская Молдова – самая отсталая в экономическом плане провинция этого государства. Никогда и нигде молдаване не жили хорошо под властью Бухареста, и это хорошо знают наши бабушки и дедушки, которые еще помнят жизнь на территории современной Республики Молдова в период Великой Румынии.
5. Почему мы не румыны?
- Нашими предками является народ, который на протяжении 8 тысяч лет (начиная с культуры Кукутень-Триполье) проживал в одном и том же ареале обитания: Карпато-Дунайско-Днестровском пространстве. В рамках этого ареала территория обитания то уменьшалась, когда в тяжелые времена наши предки уходили в леса и горы, то восстанавливалась, когда опасность уходила, и возвращалась в свои границы. Непрерывность обитания наших предков на их исторической территории доказано историческими, антропологическими, генетическими и лингвистическими исследованиями.
- Этот народ был основателем многих древних цивилизаций – от ближневосточных до большинства европейских, включая греческую и римскую.
- Если говорить о предках молдаван, которые жили в начале новой эры, то ими являются гето-даки – жители крупного древнего государства Дакия, которое занимало территорию от реки Буг (на Украине) до границ современной Германии. На юге границей Дакии был Дунай. Гето-даки были носителями гетской (фракийской) культуры и языка, который относится к группе протолатинских (предшествующих латинскому) языков.
- Римская империя в 106 году заняла около 20% территории древней Дакии, образовав одноименную провинцию, которую пришлось покинуть под ударами свободных даков в 271 году. Как результат этих событий среди румынских и ряда молдавских историков развились теории о романизации даков и, как следствие, римском происхождении валахов и молдаван. Следует сказать, что сторонником этой теории был и воспитанный в католической (латинизированной) Польше, молдавский летописец Мирон Костин, который в доказательство своей версии о римском происхождении молдаван использовал предположения, опровергнутые впоследствии, археологическими исследованиями. Под романизацией понимается латинизация, т.е. переход населения на латинский (римский) язык. Однако такого перехода не было, так как жители римской Дакии (еще до включения ее территории в состав Римской империи) говорили на языке близком к латинскому, имея оригинальную и богатую культуру. Именно этим объясняется тот факт, что молдавский язык близок к языкам, так называемой романской группы. Также следует иметь в виду, что латинизация (романизация) не являлась частью политики Рима. Более того, главной задачей наместников в римских провинциях было сохранение мира и спокойствия, в первую очередь, в вопросах религии и традиций местного населения, включая сохранение языка и культуры. Известно также, что многие легионы Рима набирались по национальному признаку из населения завоеванных провинций (Галльский, Германский, Испанский, Армянский и т.д.), которое не владело латинским языком и, более того, от рядовых воинов никто это не требовал. В таких легионах латинским языком обязаны были владеть только командиры легионов (легаты) и когорт.
- Молдаване на протяжении своей истории (как минимум с XII века) никогда не называли себя румынами, а свой язык румынским. Они называли свой язык молдавским, а себя молдаванами! Об этом свидетельствуют многочисленные документы – молдавские летописи (в том числе Мирона Костина), акты господарской канцелярии, документы из архивов иностранных государств.
- Румынизм, в отсутствие знаний о своем истинном происхождении, появился и развился в среде трансильванских валахов, чья территория входила в состав средневековой Венгрии. Эта теория, как показано выше, ошибочна, однако румынизм помог трансильванским валахам осознать себя «благородной» нацией с древними корнями и, таким образом, сохранить и спасти себя от ассимиляции привилегированными этносами Венгерской империи. Таким образом, на определенном этапе развития трансильванских валахов румынизм сыграл позитивную роль.
- Румынизм сыграл свою роль, правда, спорную, и в период объединения запрутской Молдовы с Валахией в середине XIX века. Часть молдавской интеллигенции – наиболее активных, но недостаточно опытных молодых, романтически настроенных писателей, политиков и военных приняли румынизм как флаг для объединения спасения, как они думали, нации. В результате хитрости Бухареста и романтической неопытности «молодых» молдаван были нарушены международные договоренности о наименовании нового государства – «Объединенные княжества Молдовы и Валахии». Постепенно молдавские язык и культура были «приватизированы» более многочисленными валахами под общим названием – румынские.
- Таким образом, румынизм не может быть принят сегодня молдаванами (и, возможно, современными румынами) по следующим причинам:
- Мы не произошли от Рима и имеем мало общего с разношерстным в этническом и культурном плане населением Римской империи. Наши предки, носители богатой позитивной культуры, не могли радоваться, сидя на трибунах «арен» массовым убийствам гладиаторов, равно как не могли разделять основные принципы Рима – «разделяй и властвуй», «хлеба и зрелищ». Нашему народу и культуре не 1900 лет, как пытаются доказывать большинство румынских историков, а значительно больше.
- Мы являемся этносом-потомком древних народов (однородным в антропологическом, генетическом и культурном плане), проживающих последовательно на территории Карпато-Дунайского-Днестровского пространства на протяжении восьми тысяч лет. Это доказано современными историческими, археологическими, лингвистическими и генетическими исследованиями.
- Осознание своего древнего происхождения проявилось в том, что основатели молдавского государства в качестве государственных символов Молдовы приняли не римского орла, а древние символы наших предков – голову огненного бога-быка, красный цвет знамен и воина, побеждающего змея.
- Знание народом собственной правдивой истории, исторически и культурно-обоснованное наименование этноса позволяют сохранить непрерывность и преемственность в его развитии, делают понятными его особенности, дают возможность сохранить древние символы и традиции, память о предках и истинных героях нации. Правдивая история объясняет истоки языка, культуры и обычаев этноса, формирует мощный фундамент, опираясь на который нация может стабильно развиваться. Чем глубже исследованы корни нации и ее история, тем понятнее настоящее и яснее будущее. И только на этой основе можно консолидировать народ для достижения лучшего будущего своей страны, включая сохранение и полноценное развитие национальных меньшинств.
- Наши предки всегда на протяжении всей истории существования Молдовы и молдаван называли себя молдаванами, а язык свой – молдавским! Поэтому, мы не румыны! Мы молдаване! Так называли себя наши предки, так будем называть себя мы и наши потомки!
6. Символы исторической Молдовы
Богатая молдавская историография сохранила существенную информацию об отличительных знаках правления и национальных символах государства. Из славяно-молдавских летописей, в первую очередь «Анонимной летописи (Бистрицкой) Молдавской Земли» (1359-1507), узнаём, что «в 1457, 12 месяца апреля пришёл Штефан воевода против Арона воеводы, в месте, называемом Хряска, в Должешть, и победил Штефан воевода божьей милостью и преят скипетр Молдовы». Первые молдавские историки считали захват скипетра – символа, отличительного знака высшей государственной власти – настолько значительным и важным, что неоднократно воспроизводили в своих летописях упоминание об этом событии.
Господарская корона молдавских господарей, как, например, та, которая венчает Штефана III Великого на миниатюре Евангелия из Хумора, имеет пять зубцов. Корона господаря должна была продемонстрировать, что её носитель является монархом европейского уровня.
Эволюция государственных символов – флага, герба, печати – позволяет проследить исторический путь развития молдавского государства и утверждения его в международном контексте. Как известно, Молдова отличалась также своим собственным знаменем. Форма, цвет и геральдические знаки должны были подчёркивать власть государя и авторитет страны. Информация о молдавском флаге Молдовы содержится в летописи Г. Уреке. Дополнительные ценные данные об этом символе Молдовы содержат и иностранные летописи, например хроника И. Кюкюлло. Наиболее известными и обсуждаемыми являются молдавские флаги, пожертвованные Штефаном Великим монастырю Зограф на Святой горе Афон. Основные элементы, которые отличают молдавские знамёна, – Св. Георгий Победоносец, попирающий и пронзающий дракона, и красный цвет.
Другим обязательным элементом, который мы видим на флагах в старинных хрониках, является герб Молдовы – голова быка.
Господарская булава с оправленным в серебро и украшенным самоцветами набалдашником тоже была одним из символов власти господаря. Она могла служить также и оружием.
Меч тоже являлся отличительным знаком царствования, боевым оружием и в то же время элементом придворного церемониала.
Герб Молдовы, часто описываемый в средневековых молдавских летописях, воспетый в поэтических произведениях Митрополита Дософтея, является основным элементом молдавской государственной печати. Красный цвет молдавского флага, изображение головы быка на гербе Молдовы существовали на протяжении долгого времени, являясь отличительным знаком молдавского государства около 700лет.
6.1. Регалии власти молдавских монархов
6.1.1. Господарская корона
Подобно другим европейским королям или герцогам, молдавские господари имели собственные отличительные знаки, которые подчёркивали и выделяли их статус как монархов, «помазанников Божьих», «Божьей милостью». Этими знаками были булава, скипетр, корона, меч. В обширной молдавской историографии преятие (взятие) скипетра (жезла, который держали государи как символ королевской или императорской власти; власти господаря) приравнивалось к завладению, получению верховной государственной власти. Так, в первой истории Молдовы, написанной при дворе и по поручению Штефана Великого – «Анонимной летописи Молдавской Земли», во второй части «Молдавстии царие», сообщается: «в 1457, 12 месяца апреля пришёл Штефан воевода против Арона воеводы, в месте, называемом Хряска, в Должешть, и победил Штефан воевода божьей милостью и преят скипетр Молдовы».
Первые молдавские анонимные историки приписывали такое глубокое и большое значение обладанию скипетра, что повторяют описание этого события и позднее: в «Путнянской летописи» (I-й и II-й варианты), «Летописи для господарей». «Сказание вкратце о молдавских господарях» («скипетр Молдавского Государства»), а также в хронике Евфимия: «восприят царствия скиптри Молдавския»…
Господарская корона, то есть корона господарей, молдавских властителей, например, Штефана Великого, как она изображена на миниатюре в Евангелии из Хумора, увенчана пятью зубцами. Форма короны молдавских господарей, драгоценные камни, украшающие корону Штефана Великого, как на портретах в церквях Пэтрэуць и Св. Илии в монастырях Воронец и Добровэц, говорят о том, что её обладатель является монархом европейского масштаба, и ничем не уступает другим королям или царям.
6.1.2. Булава
Булава (с оправленным в серебро и инкрустированным самоцветами набалдашником), была также одним из символов власти господаря.
Булава, кроме того, служила боевым оружием. Из молдавско-польской летописи (1352-1564) узнаём, что непреклонный Штефан-воевода Томша «ударил булавой» Деспота-Водэ (в 1563-м году). Это событие было описано и Г. Уреке: «попрекнув его, Томша ударил его булавой». Однако и Гр. Уреке, и М. Костин утверждали, что в первую очередь, булава была символом политической власти господаря.
Меч также являлся отличительным знаком власти господаря, его оружием и в то же время элементом придворного церемониала. Для этого царского атрибута – оружия господаря – при молдавском дворе существовала специальная придворная должность – спэтар (спафарий). Как пишет М. Костин, во время праздников (церемоний, дипломатических приемов) спэтар шёл позади господаря, неся на левом плече королевский меч и булаву в правой руке.
6.1.3. Знамя
Национально-государственные символы: флаг, герб, государственная печать представляют собой ценнейшие документальные исторические свидетельства, которые позволяют проследить путь исторического развития Молдавского государства и утверждения его в международном контексте.
Глубоко укоренившись в исторической памяти народа, эти символы своей преемственностью обозначают и подтверждают многовековое существование государства. Как неоднократно утверждалось, «Молдавское государство отличалось также своими флагами, цвета и геральдические знаки которых говорили языком образов об авторитете страны», указывая посвященным на древнее происхождение народа и его господарей. О существовании молдавских флагов узнаём от Григоре Уреке, который, сообщая о войне Богдана Воеводы с ляхами, пишет: «появилось всё войско Богдана-Водэ (Богдан II-й, 1449-1451, отец Штефана Великого) со множеством знамён и бучумов». Информация о первых молдавских флагах в форме описания и гравюр имеется со времён Штефана Великого. Венгерская хроника И. Кюкюлло содержит гравюру, изображающую сцены из битвы при Байе (1467), когда молдаване под командованием Штефана одержали решающую победу: венгерское войско, с двумя королевскими штандартами, схватилось в битве с самим молдавским воеводой Штефаном III, который держит в руках флаг с вертикальными полосами, на котором рядом с древком, по всей ширине, изображён герб Молдовы – голова быка.
Самыми известные молдавские флаги были подарены в 1500 году Штефаном Великим монастырю Зограф на Святой Горе. Один из них в последнее время неоднократно появлялся в средствах массовой информации, изображался во многих сборниках. На красном фоне знамени вышита фигура Св. Георгия на троне, попирающего змея.
Другое знамя, подаренное Штефаном Великим монастырю Зограф, похожее на церковные хоругви, также имеет красный фон, на котором вышит Св. Георгий на белом коне. На молдавских знамёнах, изображённых на гравюре польского летописца М. Бельского, на которой запечатлён эпизод из битвы при Обертыне (1531) между молдаванами и поляками, в центре изображён герб Молдовы – голова быка, справа от неё – солнце, слева – полумесяц.
В сборнике документов, изданном в 1533 году в Кракове, в котором сообщается также о «homagium palatini Moldaviae», описан молдавский флаг: «Большое знамя было красного цвета, а на нём красиво изображен золотом герб Молдавского государства» (banderium magnum sericeum, coloris rubri, in quo arma terrae Moldaviae pulhre auro depicta erant).
Таким образом, имя Молдовы и молдаван, символы Молдавского государства ещё с XIV-XVI веков остались навечно вписанными в архивы европейских государств.
Это самые древние свидетельства, выгравированные, вышитые, вписанные в анналы времён, которые четко указывают на красный цвет молдавского флага, как основной его цвет, и на изображенный на нём герб Молдовы – голову быка с пятиконечной звездой между рогами, изображением луны в нижней части головы слева и солнца – справа.
6.1.4. Герб
Герб Молдовы, хорошо знакомый по печатям, которые прикладывались/привешивались в конце документов молдавской Государственной канцелярии, по описаниям митрополита Дософтея, вышитый на древних знамёнах Молдавского государства, на флагах Молдавской Демократической Республики (2.12.1917—27.03.1918), Румынии и Республики Молдова, представляет собой щит с головой быка со звездой во лбу, справа от которого расположено солнце, а слева – полумесяц. На протяжении веков герб претерпел незначительные изменения, однако основные элементы – щит, голова быка и сопровождающие её элементы (солнце, полумесяц) остались практически неизменными и окончательными, всегда представляя собой главный Символ Молдавской Государственности.
Наиболее раннее письменное упоминание о гербе и печати Молдавского государства содержится в первом описании истории Молдовы – Летописи Гр. Уреке. Из предисловия к этому писанию узнаём, что: «пастухи, которые пасли отары в Ардяле, который назывался Мараморош.. столкнулись со зверем, который называется тур (боур) и после долгого гонения за ним по горам с гончими собаками вышли в долину реки Молдова. Там они убили уставшего зверя на том месте которое ныне называется Боурень… Поэтому герб или печать страны головой тура обозначается».
В «Хронике стародавности романо-молдо-влахов» Д. Кантемир, образованный учёный и деятель культуры, сам будучи в прошлом молдавским господарём, надеющимся вернуться к власти, не мог допустить, чтобы основателями страны считались бродячие пастухи. Он утверждал, что «Драгош воевода был боярином и сыном боярина». В восьмой главе первой части – «Географической «Описания Молдовы» (1716), Д. Кантемир, пересказывая сюжет легенды, известной ему от Гр. Уреке и М. Костина, об основании Молдовы, пишет, что «Драгош решил, что гербом нового княжества будет голова быка».
Герб Молдавского государства: голова быка со звездой между рогами, с солнцем справа и полумесяцем слева является базовым элементом государственной печати Молдовы, молдавских монет; является определяющим знаком знамени Молдова. Самая древняя (сохранившаяся) господарская молдавская печать привешена к акту, подписанному Петром Первым Мушатом в 1384 году. Контур печати на белом воске ухватывает голову быка со звездой между рогами, с солнцем слева и полумесяцем справа. Специалисты расшифровали текст, идущий по краю печати: «Petru voivoda Moldaviensis». Этот же отпечаток можно видеть и на первых молдавских монетах – грошах – отчеканенных Петром Первым Мушатом.
Большинство печатей господарей содержат в качестве обязательного составного элемента и надпись на славянском языке. Например: «Печать ио Романа воевода Земле Молдавской» привешена к документу от 30-го марта 1392 года. Надпись на печати, приложенной к грамоте Александра Доброго, гласит: «Печать Олександра воевода, господарь Земли Молдавской».
Печати Штефана III Великого, приложенные к более чем 500 известным на сегодняшний день документам, мало чем отличаются друг от друга. На них изображён молдавский герб и лаконичная, полная достоинства, надпись: «Печать ио Стефана воевода Земли Молдавской …»
Герб Молдовы – голова быка сопровождает всю многовековую молдавскую историю, являясь частью композиции молдавских национально-государственных символов: государственной печати, флага, являясь доказательством преемственности Молдавского государства, молдаван, их стремления к сотрудничеству, взаимопониманию с другими европейскими народами, межэтническому единству и миру. Об этом торжественно заявляет со всей убежденностью молдавский митрополит Дософтей в своих стихотворных строках:
Стихи о гербе Государства Молдавского
Печать молдавской власти
Главу этого зверя считай
Голова быка крепкая
Являет, силу старшего,
Бесчисленно многих победила.
(Перевод подстрочный)
Существуют дискуссии о звезде, венчающей молдавский герб: то ли она пятиконечная, то ли шестиконечная, то ли восьмиконечная. Мы должны помнить, что молдавская звезда – пятиконечная, так как изображения герба, которые сохранились с момента основания Молдавского государства в 1359 году до первой половины XVII века, однозначно указывают на это. Более поздние изображения с шестиконечными и восьмиконечными звездами можно объяснить тем, что художники и скульпторы, изображавшие герб, не придавали значения количеству углов.
Символ Быка-Зубра в Молдове был ключевым в геральдике и традициях нашего отечества, поэтому, по нашему мнению, есть смысл рассмотреть истоки этого символа более подробно.
Как было показано выше, по мнению большинства исследователей и свидетельств летописцев и историков, в формировании национальной и государственной традиции решающую роль сыграла легенда о Драгоше, собаке Молде и загадочном прообразе первопредка и старожила лесного царства Кодр, зубре. Однако все оказывается не так просто, если оценивать историю нашего государства с высоты третьего тысячелетия, анализируя огромный пласт знаний, собранных после появления первого письменного упоминания об этой легенде. Разумеется, недостаточно убить зубра во время одной из охотничьих забав, чтобы навсегда увековечить его образ на флаге учрежденного этим охотником государства. Все не так просто и, очевидно, в этом символе заложено больше, чем просто тщеславное желание охотника увековечить свой трофей. Ведь и Драгош, и его предшественники ничего для себя не открыли, а прекрасно знали места, где охотились, знакома им была и фауна, и народ, издревле населяющий эти земли. И древнее название реки Молдова им было известно. Очевидно, легенда была нужна и нужна была для сокрытия тайны, зашифрованной в этом символе.
С глубокой древности символы несли зашифрованную информацию о вещах более высокого порядка, чем сам изображаемый предмет. О чем говорит нам этот загадочный символ быка? Какая идея стоит за его тайной? Символ Быка не исключение в этой цепи тайн и их наглядных воплощений. Кто же он, легендарный, окутанный туманом времени и мифов бык Молдовы? Прежде чем разобраться с этим вопросом, разъясним, в чем суть символа и его сакральная нагрузка в традициях и мифологемах традиционных обществ.
Основное отличие символа в традиционном обществе от современных символов заключается в том, что в прежние времена символ всегда нес идейную мистическую нагрузку и изображал нечто большее, чем возможно было познать взглядом. То, о чем говорил символ, всегда его превосходило и превосходило настолько, что передать знание о данном предмете возможно было лишь извне, никогда не претендуя на то, что символ раскроет всю суть идеи. В давние времена, стоящим на вершине традиционного общества жрецам, волхвам или магам требовалось нечто, что кодифицирует, направляет, трансформирует, воздействует на сознание масс, при этом не раскрывает всей полноты тайны, мысли, парадигмы, глубокой, зачастую надчеловеческой идеи. Символ представлял не только форму, тело объекта, но говорил об идейных основах, направляя путь человеческого сознания по пути духовного роста, при этом не раскрывая всей полноты и сути вопроса, ибо ни он, ни то общество, ни человек, зачастую были не способны переварить и адекватно принять эту информацию. Следующим моментом было то обстоятельство, что символ нес знание, зашифрованное на все времена. Были столетия, когда человек не мог говорить о тех или иных идеях, проблемах реальности, и символ сохранял это далекое, зачастую забытое знание для тех потомков, коим судьба уготовит возможности познания и воплощения данных идей. Он как покровитель хранил идеи, младенца до тех пор, когда они смогут быть востребованы и восприняты в обществе или, по крайней мере, в рамках одной личности. Бог должен отображаться и воздействовать на сознания масс или, по крайней мере, отдельных личностей. С этой поры он живет в образе, но если есть хоть один носитель традиции или тайного знания, символ начинает жить в мифе, ибо миф есть то сакральное пространство, где символ себя мог бы чувствовать как рыба в воде, где символ творит и системообразует информационное и энергетическое поле, а попадая в рамки человеческой осознанности, становится архетипом, чья информационная энергетика есть стимулятор бытия нуминозного, сакрально мыслящего человека.
Таким всегда представлялся человеку мира традиции символ Быка – один из наиболее древних и энергоемких и наиболее священных символов древнего мира. В глубокой доисторической древности он наполнял жизнью все фибры человеческой души. Не было ни змея, ни дракона, ни орла, лишь человек и бык, а сегодня один брат употребляет другого в пищу, причем действие это ритуальное, аналогичное жертвоприношению. Значит, что-то произошло в человеке, если бык, будучи символом человеческого покровителя и бога, проявленного бога, стал жертвой, значит, человек сменил хозяина, сошел с пути, изменил состояние сознания и душу. Почему? Ответ очевиден для религиоведа, он всегда коренится в ритуале, ведь неважно, во что ты веришь, важно, какой закон ты блюдешь, только это важно для бога.
Наши дела, не наши разглагольствования. Так вот, с точки зрения сакральной юриспруденции, сакрального, изначального права, суть такова. В жертву всегда приносят противоположное, покоренное начало и его репрезентанта, ибо в жертву своему богу несут поверженного врага. Таковым стал со временем, в процессе измены, дегенерации, для человека бык. Человек, сойдя с пути, предначертанного ему богом, изменил свою суть, сменил архетипы и идеалы, черное стало белым, бык сатаной, Баал-бык дьяволом. Предав свои корни, мы все равно остались в той же шкуре, что изначальные наши предки. Мы деградировали, но подсознание, единое с прошлым опытом, с информацией и архетипами предыдущих поколений, продолжало жить в нас, влияя на нашу сущность. Символ быка продолжал, несмотря на дегенерацию сути человека, поражать его ум, восхищать его сознание, напоминая ему подсознательно о чем-то великом, непознанном, а может, забытым давным-давно у истоков времен. Бык, поверженный символ бога золотого века, продолжал жить в сознаниях масс, сохраняя свою суть для тех единиц, кто хранил вдали от системы истинное знание. Для последних посвященных мира традиции этот символ велик был еще и потому, что не изменил своей сути ни на йоту, оставшись навсегда тем, кем был создан изначально.
Величие символа быка становится нам более понятным тогда, когда мы осознаем, что он был стержнем очень древних культов и не изменил за тысячелетия ни на грамм своей изначальной, позитивной архетипической нагрузке. Ведь нет разницы между быком, которому поклонялись легендарные атланты, между Аписом – богом их приемников, древних египтян, между семитским Ваалом, быкоголовым царем мира, покровителем Тира и Карфагена, быком Меровингов, между богом древних славян, рогатым царем мира Велесом-Волосом и быком, отображенным средневековым христианским логографом на молдавском флаге. Везде одна суть и один прообраз, архетип, везде символ говорит меньше, чем та идея, информацию о которой он нам несет. Бог всегда значительнее своего символического отображения, адаптированного для восприятия масс. Но человек должен соприкасаться с миром богов. Священное всегда проявляет себя посредством богоявления. Как говорил великий Мирча Элиаде: «Проявления священного онтологически сотворяет мир…иерофания обнаруживает абсолютную «точку отсчета», некий «Центр»…Именно поэтому религиозный человек стремится расположиться в «Центре мира». Чтоб жить в центре мира необходимо его сотворить…(М. Элиаде «Священное и Мирское»).
Для нас, детей Молдовы, символ быка и миф о Зубре и Драгоше есть такое же проявление центра, как голова великого кельтского Брана, зарытая под Лондоном и защищающая его, такое же проявление центра, как храм Бела в древнем Вавилоне и легенда о строительстве Соломоном Иерусалимского храма в древнем израильском царстве, как легенда о Хираме для масонов всего мира, ибо символ нашего быка актуализирует, проявляет нашего покровителя, бога, а его символ, воплощенный в быке-зубре кодифицирует миф и легитимизирует наше историческое пространство. Бык проявляет сей центр, и для нас он здесь, на земле Зубра, древнего покровителя тысячелетних кодр.
Символ Быка известен традиционному сознанию с глубоких доисторических времен. Его первые изображения можно найти в пещерах палеолитической Европы, где древние мастера живописи оставляли потомкам свои знания, воплощенные в данном образе. Неолитическая общность древних культов еще доиндоевропейского происхождения имела свои центры здесь, на землях юго-восточной Европы. Здесь, в культуре Триполья, в более поздние времена мы также видим древние культы быка и богини матери. В финикийском Карфагене нам предстает героический образ военноначальника, правителя Ганнибала, который носил имя великого быкоголового бога Баала, аналога славянского Велеса. В маздаизме, еще во времена Йимы, царя золотого века, этот символ был главным. В реформированном маздаизме, в зороастризме, а позже в зерванизме символ быка стал одним из основных религиозных атрибутов. В арийской Авесте он представлен изначально наряду с человеком и есть наиболее положительное создание божества, воплощение этого бога – Ахурамазда. Геуш Урван – душа быка – древнее зороастрийское, божество, покровитель стад. Здесь следует упомянуть и образ рогатой Венеры, Тельца, у ариев Индии она иногда мужского рода, является покровителем богов старшего поколения асуров, восточных титанов и именуется Шукрой.
Загадочный древний символ быка… Кто же он этот бык, символ бога, суть которого мы пытаемся понять и какого бога репрезентует он? Библейская энциклопедия сообщает о боге ханаанеев Ваале. «Ваал или Вал (Господин) (3Царств.18.9..Ис.46.1.Иер.9.14.) название бывшего языческого божества, боготворимого в Финикии и Сирии, а первоначально название божества, под которым некоторые из древних восточных народов боготворили солнце. Финикияне называли солнце Ваал-Самен, что значит Господь Небес. Так как Ваалу поклонялись под различными видами и притом в разных странах, то для точности к названию Ваал прибавлялось название и самого места, как например Ваал-Гад, Ваал-Пеор и все названия сливались в одно общее название Ваалам (3Цар.18.18). Множество мест, посвященных сему языческому божеству, и масса лиц, поклонявшихся и служивших ему, указывают на то, как далеко и сильно было распространено поклонение Ваалу. Ваал, Вал или Бел были боготворимы Трипольцами, Вавилонянами, Сирийцами, Карфагенянами и другими народами… Ваал и Астарта служили общим названием всех богов и богинь Сирии и Палестины и соседних стран. В позднейшие времена, как говорят историки, боготворение Ваала господствовало во всей древней Скандинавии, и, как предполагают, было общим на Британских островах. Доселе еще сохранилось много суеверных обрядов в Ирландии и Уэльсе (Валлисе), очень напоминающих древнее поклонение Ваалу». Господствовало это поклонение в древние времена не только у карфагенян, которые с его именем шли на войну с Римом, возглавляемые Ганнибалом, имя которого посвящено Ваалу, но и у евреев. Противостоянию жрецов Ваала и Ильи на горе Кармил посвящена не одна строфа в Библии.
Идентифицировать этого бога со злом крайне неверно, ибо его кельтский аналог Белен есть греческий Аполлон, бог света, искусства и гипербореев, т.е. божество, которому не только поклонялись троянцы, но которому был посвящен дельфийский оракул. Этого светлого бога звали Феб, «не стригущий волос». В славянском мире он был известен как Волос-Велес, скотий бог славян и волохов Карпатского региона. Символ быка в нашем карпато-днестровском регионе, как мы указывали выше, также имеет древнюю историю. Его корни, как и корни самого культа быка, уходят в глубокую неолитическую древность, а возможно, и в более раннюю т. н. доисторическую эпоху атлантического мира.
Как мы отметили выше, неолитическая религия древней Европы с ее культом быка связана в первую очередь с культурой «старой Европы», а та через Триполье, культуру Винча, с культурой Чатал-Хююка (7000 тыс. д.н. э.) в Анатолии, которая предшествовала докерамической культуре Иерихона и повлияла на нее. В Триполье и Чатал-Хююке был повсеместно развит культ Великой Богини и Быка. М. Элиаде писал, что главное божество религии Чатал-Хююка – Великая Богиня рождала сына или, что вернее, быка. Быком был и верховный бог этой религии, но зачастую он представляется антропоморфным, человекообразным существом, сидящим на быке. Повсеместно встречалось здесь сочетание в изображениях женской груди и бычьего рога, а на печатях тех времен видны культовые сцены с алтарем, украшенным бычьими черепами, т.е. алтари той эпохи украшались черепами богов. Подобная религиозная символика встречается и в более поздней шумерской культуре. В Триполье также повсеместно распространяется культ Быка. Религия трипольцев основывалась на культах плодородия и связывалась с образом Богини-матери, дающей жизнь, и быка, ее супруга, аналога кельтского рогатого бога, лесного царя, воплощающего в себе традицию царской власти, символом которой в древней Европе был Бык. Сосуды трипольцев зачастую украшались ручками в виде «…рельефных бычьих рогов и стилизованных голов быков…», являющихся символом мужского божества. Интересен тот факт, что в древней Фракии, где жили племена прямых наследников трипольской культуры, фракийцев, была целая область Бистония. Эта область находилась в северо-восточной части Балкан (на территории исторической Молдовы), и была известна, согласно Страбону, своими быками (см. Страбон. География. Фрагменты книги VII.43; Оppian. Cynegetica. 2. 160). Согласно Варрону, «совершенно дикие быки водятся во множестве в Дардании, Медике и Фракии» (Варрон. II. 1. 5).
Итак, наш молдавский герб строится на символе быка-зубра. Этот континуитет поражает сознание заинтересованного исследователя. После многих столетий и на сей день он символ нашей государственной традиции. Кто он для нас и в чем его актуальность и суть? Ведь это не просто образ, это наша история, это наше знамя, это наш архетип, воплощенный во времени, это тот символ, что духовно нас роднит с Драгошем, Богданом-Основателем, Александром Добрым и Штефаном Великим.
Это – наша времен связующая нить, нить из образов и идей, которые питали сознание Штефана Третьего и всех Мушатинов, наших великих историков-логографов – от Уреке и Некулче до Дмитрия Кантемира.
Древняя Молдова, дебри ее кодр были не пусты, здесь жили люди. Их было не так много, ибо истина всегда познается в молчании. Они были потомками тех, кто верил в символ, идею Велеса, бога-быка и хранил здесь свое лесное, от Велеса, кудрявого Волоса данное знание. Солнце, хранимое предками, было и есть солнцем воплощением, солнечного быка богатств, ибо солнце – золото бедных, оно суть бытия тех, кто не вошел в систему, в концентрическую систему мира сего. Эти люди поклонялись богу, не стригущему волос, Апполону-Белену, это свободные волохи, дети бога Волоха, последние потомки свободных даков, детей Гебелейзиса (бога даков). Здесь Гебелейзис и есть Белез, т.е. Велес и Геб – бог земли. Подданные бессмертного, ибо обессмертил он свое имя в борьбе с оплотом Зевса-Юпитера, подданные великого царя Дечебала. Он также был от Баала, ибо Баал в его имени, ибо Бала на санскрите, столь близком молдавскому языку, есть сила планеты. Веками воины бога земли здесь мирно жили и творили. В память о тайне этой земли они оставили нам миф, знание о том, в чем суть страны и почему здесь стоит Кишинёв, Белый город, могила белой головы, бога Бела, где ангел короны сторожит тайну времени в ожидании бога-Ваала, который обязательно вернется, принеся людям свободу и счастье. Вернется сюда в гиперборейскую Дакию – христианскую Молдову, в обновленную страну будущего золотого века, в страну потомков титанов, творцов нового мира, к могучим, древним кодрам, в маленький храм бога быка, укравшего некогда красавицу Европу. Мы же сегодня и впредь будем хранить эту святую землю, наши поля, сады и наши кодры, нашу святую землю и наше прекрасное Отечество – Молдову.
6.2. Коронация господарей Молдовы
Во времена зарождения молодого молдавского государства коронация господарей была выражением независимости и суверенитета правителя над территорией, которой он управлял. Эта автономия и власть подчеркивалась в титуле господаря, который назывался «единым правителем (singur stăpînitor) всей Земли Молдавской».
Этим титулом и даже церемонией коронации господари Молдовы (от Богданешт до Мушатинов) отсылали к византийскому имперскому наследию. Титул «Ио», который использует Штефан Великий в Хуморском Четырехевангелие, призван показать, что господарь занимает трон «Милостью Божиею». Титул молдавских правителей не был точно определен. Они не назывались ни царями, ни королями, упоминались иногда как воеводы, принцепсы, князья, князья, иногда как палатины. Тем не менее, они обладали всеми регалиями королевской власти.
В период независимости Земли Молдавской церемониал коронации состоял из двух этапов: инвеститура (избрание) господаря и собственно коронация.
Инвеститура проходила в поле, за пределами крепости. Штефан Великий был «избран» господарем на поле под названием «Справедливость» (Dreptate). В церемонии участвовали все бояре, двор и все воинство страны. Обычай проведения этой церемонии под открытым небом, за пределами крепости, был аналогичен подобной церемонии в Римской империи, где императоров провозглашали вне стен Рима, а затем они входили в город уже облеченные императорской властью. Важным моментом церемонии стал ритуал поднятия господаря на щите в знак того, что армия была ему лояльна и что с этого момента он наделен всей полнотой власти.
Вторая и более торжественная часть коронации проходила в кафедральном соборе. Религиозную церемонию совершал митрополит в сопровождении всех епископов, множества священников, в присутствии господарских советников и придворных. Коронация включала помазание и вручение символов светской власти: булавы, скипетра и господарского флага. Церемония проходила по определенным правилам. Митрополит и духовенство встречали господаря перед церковью, откуда процессия сопровождала правителя до святого престола. Два епископа вели господаря во время трехкратного обхода престола. Господарь становился на колени с опущенной головой перед престолом, митрополит совершал обряд миропомазания и читал молитву коронации. Затем в центре церкви митрополит надевал на голову господаря золотую корону, передавал ему скипетр или булаву и вместе с постельником сажали господаря на трон в церкви. С этого момента господарь был наделен всей властью королевской особы. В господарском дворе все подданные давали ему клятву верности, а в завершении церемонии народ провозглашал господаря.
Начиная с конца XVI века, когда господари Молдовы стали зависимы от османских султанов, церемония инвеституры уже не совершалась в стране, а проходила в резиденции султанов в Стамбуле. Господари больше не носили золотую корону. Знаком их господарской власти стала «кука» или «гужимака» – меховая шапка с брошью из золота и драгоценных камней. Султан вручал господарю в знак суверенитета турецкое зеленое знамя с полумесяцем и два туга, то есть два конских хвоста.
Церемония коронации господарей Молдовы в Стамбуле была наиболее роскошной после церемонии назначения нового султана. Господарь отправлялся из Влахсарая (дворца влахов в Константинополе) в резиденцию султана. Там его встречал великий визирь, который сообщал ему о решении султана и приветствовал господаря, обращаясь к нему в соответствии с новым титулом. Господарь надевал кафтан, подаренный султаном, и просил его покровительства для себя и своей семьи. Начальник императорский конюшни передавал господарю красиво украшенного коня, которого сопровождали сто всадников, 24 глашатая и четыре пеших бегуна, державших стремена коня. Господарь садился на коня и вместе со всей свитой шествовал по улицам Стамбула до резиденции Константинопольского Патриархата. Духовенство во главе с Вселенским Патриархом пели Aksionestin (Достойно есть), а в самом храме совершалось миропомазание. На выходе из храма господаря встречала османская свита и сопровождала его в Влахсарай. На следующий день господаря поздравляли иностранные послы, а на третий день господарь Молдовы представал перед султаном. Он входил со склоненной головой и преклонял колени перед султаном.
Султан передавал ему «кику» и дарил лошадь, украшенную сбруей из золота с драгоценными камнями, ковер, сотканный золотыми и серебряными нитями, меч и булаву. Этот церемониал инвеституры молдавского господаря был выражением вассального статуса Молдовы перед Османской империей.
7. Об объединении Республики Молдова и Румынии
На протяжении всех лет независимости Республики Молдова то на левом, то на правом берегу Прута поднимается вопрос об объединении двух братских стран. И в Республике Молдова, и в Румынии действуют политические силы, которые ставят перед собой одной из главных задач объединение Молдовы и Румынии. При этом, если вникнуть в суть тех целей, которые ставят перед собой соответствующие политики, речь идет не об объединении, а о присоединении Республики Молдова к Румынии на условиях Румынии и, соответственно, о полной ликвидации молдавского государства.
О необходимости переговоров речь не ведется – объединение должно произойти мгновенно, как это было в случае с присоединением Бессарабии и Трансильвании в 1918 году, а также Северной Буковины в 1920-м. По закону «свершившегося факта», который является изобретением и предметом гордости румынской дипломатии.
Несмотря на то, что официальные власти Румынии на словах всегда признавали суверенитет и независимость Республики Молдова, практически вся румынская элита считает вопрос присоединения Республики Молдова к Румынии делом времени. Именно с этим связана политика румынизации всего и вся, которую настойчиво и планомерно насаждает Бухарест в Молдове на протяжении всех лет независимости нашей страны. Именно поэтому официальный Бухарест, который имеет соответствующие договоры со всеми соседними странами, тщательно избегает любых переговоров, связанных с заключением договора о границе с Республикой Молдова, фактически не признавая наличие границы по реке Прут.
При этом элита братского соседнего государства не может понять и смириться с фактом отсутствия у унионизма политической базы в Республике Молдова, что связано с несколькими основными факторами:
- Молдаване Бессарабии не видели преимуществ (их не было), которые получили запрутские молдаване в результате объединения с Валахией и жизни в Румынии. Более того, уровень жизни в Бессарабии был всегда выше, чем в молдавской части Румынии.
- Объединение Молдовы и Валахии в середине XIX века происходило без участия бессарабских молдаван, но на их глазах прошла румынизация (денационализация) запрутских молдаван и быстрая деградация румынской Молдовы, которая и сейчас является самой отсталой провинцией Румынии;
- Элита молдаван Бессарабии не договаривались с валахами о создании общего государства, названного Румынией, не участвовала в этом процессе и никогда, до силового присоединения Бессарабии к Румынии в 1918 году, на официальном уровне не признавала бессарабских молдаван румынами. Бессарабские молдаване и их лидеры не имеют никаких исторических оснований и обязательств перед кем-либо называть себя румынами, обладают мощной этнической памятью, гордятся своим самоназванием и названием своего языка, передавая это знание потомкам. Молдаване Республики Молдова ценят свою народную культуру и традиции, гордятся ими, развивают и популяризируют их, называя исключительно молдавскими;
- Истинных румын среди обладателей румынских паспортов в Республике Молдова не так много и, соответственно, у унионистов нет широкой электоральной базы;
- Большинство молдаван не верят, что в Румынии они будут жить лучше – для этого нет исторических оснований. Молдаване не верят румынам также вследствие высокомерного поведения румынской элиты, часто малообразованной и слабо понимающей реалии в соседней стране. «Они называют нас братьями, но относятся к нам, как к людям второго сорта», – распространенное мнение среди молдаван о поведении румынской элиты. Одни политики высшего звена Румынии заявляют о ненависти к Республике Молдова (параллельно, очевидно, и к ее жителям), а другие заявляют, что молдаван и молдавский язык придумал Сталин;
- Все это, а также назойливость бухарестских деятелей, которые пытаются объяснить нам, кто мы по национальности, у подавляющего числа молдаван вызывает раздражение или, в лучшем случае, снисходительную улыбку;
- Высокообразованные молдаване из Республики Молдаване не понимают этого высокомерия со стороны бухарестских румын, культура которых основана на молдавской классической литературе, музыке и народных традициях. Такое отношение к нам, молдаванам, со стороны румын вызывает острое неприятие унионистских идей или полное равнодушие к ним;
- Молдавская политическая элита не видит никакого смысла в объединении и по причине того, что не хочет терять власть и международное признание, но эта причина вторична.
Таким образом, у унионистов нет базы в Республике Молдова для реализации Унири.
Нет у румынского унионизма и международной поддержки, так как большинство европейских стран, включая Украину, не заинтересованы в усилении Румынии и, кроме того, существует позиция России, которая посредством неурегулированного приднестровского конфликта, а также пророссийских политических сил внутри страны, продолжает оказывать влияние на процессы в Республике Молдова
В настоящее время обстоятельства сложились таким образом, что поглощение Республики Молдова Бухарестом нереально, однако, если заглядывать в далекое будущее, то подобный диалог между элитами двух стран возможен, но исключительно на равноправной основе.
Для этого румынское государство должно прекратить свою антимолдавскую деятельность, а румынская элита – настроиться на обсуждение реальных компромиссов, при достижении которых возможно объединение двух братских государств в далеком будущем. Темы для обсуждения между унионистами двух стран предлагаются следующие:
- Наименование государствообразующей нации объединенного государства;
- Название объединенного государства, соответствующее историческим реалиям;
- Решение приднестровского вопроса;
- Государственное устройство объединенного государства (федерация, конфедерация…);
- Столица объединенного государства;
- Налоговая система;
- Распределение финансов государства между провинциями;
- Международные объединения и союзы;
- Многое другое, что необходимо решить на старте.
Готова ли к такому диалогу румынская элита, покажет время, а пока вопрос объединения следует снять с повестки дня и строить отношения между государствами на основе взаимной поддержки и сотрудничества, оставив в стороне спорные вопросы до лучших времен.
Исторические документы
Сфальсифицированные исторические документы
Копии документа канцелярии Валахии, где в оригинале пишется о Унгровлашской земле (название страны Унгровлахия), а в переведенных на румынский язык, в издании Румынской Академии Наук от 1953 года, страна уже называется «Țara Românească».
Молдавский язык в документах господарской канцелярии
Документы господарской канцелярии, в которых упоминается молдавский язык, изданные Румынской академией в 1915 году